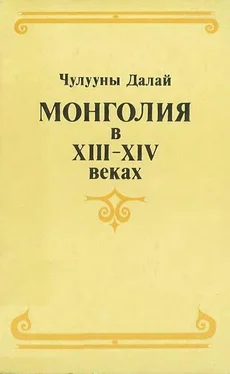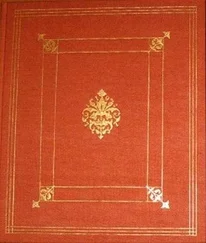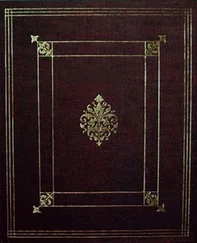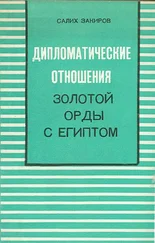Бесчисленное количество посланий и сочинений, написанных Пагба-ламой ради распространения буддизма, особенно в Монголии, сохраняется в собрании его сочинений. Как сообщается в одном из его трудов, вошедших в собрание сочинений, Пагба-лама однажды на аудиенции у Хубилая посоветовал ему: «Если Вам нужно использовать людей на службе, то выбирайте их сами. Вообще нужно привлекать как желтых (монахов. — Ч. Д .), так и черных (мирян. — Ч. Д .) наравне с воинами и народом». Так Пагба-лама сыграл важную роль в формировании политики «двух принципов — принципов государства и религии» (тор ба шашин ном-ун хойар йосун), т. е. сочетания государственного и религиозного принципов в управлении империей в период властвования Хубилай-хагана.
Монгольские хаганы издавали суровые законы и правила в защиту прав буддийского духовенства. Например, одним из указов Хубилай-хагана устанавливался жестокий закон, по которому тому, кто подымет руку на ламу или послушника, отрубалась рука, а тому, кто словесно оскорбит их, вырывался язык; законодательно утверждалась неприкосновенность лам и закреплялись за ними права дарханства.
Последующие хаганы, продолжая политику Хубилай-хагана по отношению к культам и религиям, неоднократно приглашали в столицу империи иерархов монастыря Сакья [640], оказывали им всяческую поддержку, почитали их, как святых. Такая политика находила выражение в издававшихся ими указах, посвященных буддийской религии.
Монгольские хаганы поддерживали широкие связи не только с монастырем Сакья, но и с другими влиятельными тибетскими монастырями. Они приглашали ко двору монахов буддийской секты Кармапа, которая находилась в монастыре Цурпу. Во времена Монкэ-хагана Чойджин-лама (1202–1283), известный в литературе как «учитель Кармапа», приглашался ко двору и почитался наравне с Пагба-ламой. Иерарх секты Кармапа Рорлийдордже (1339–1383) был приглашен ко двору при Тогон-Тэмур-хагане и стал одним из наиболее влиятельных лам.
Монгольские хаганы установили также тесные отношения с монастырем Гунтхан, расположенным в области Цзан. В XIII–XIV вв. монастырь Гунтхан пользовался большим влиянием среди тибетских монастырей и боролся за главенство над всеми монастырями Тибета. Ламы из монастыря Гунтхан нередко исполняли обязанности правителя области Цзан [641]. Монгольские хаганы проводили активную политику, направленную на то, чтобы, используя влияние этого монастыря, подчинить себе весь Тибет. Хубилай-хаган, постоянно приглашавший ко двору монахов из монастыря Гунтхан, величал их святыми и назначал правителями области [642]. В то же время в среде своих монгольских лам были и такие, как Чойджи-Одсэр, знаток религиозных буддийских наук, переводчик, иконописец и автор буддийских сочинений. Чойджи-Одсэр получил сан пандиты за выдающиеся знания в области буддийского учения [643].
Хубилай и другие монгольские хаганы уделяли большое внимание строительству новых и ремонту и восстановлению старых буддийских монастырей в столице, Ланьчжоу и других городах и сельских районах. При них осуществлялись многие переводы буддийских сутр на монгольский язык и публикации их. По данным 1291 г., в империи Юань насчитывалось 42 тыс. 318 различных религиозных храмов и 213 148 священнослужителей [644].
В конце эпохи Юань политика монгольских хаганов, поставивших буддизм в особо привилегированное положение, вызвала недовольство. Борьба тибетского народа против иерархов монастыря Сакья и других, под прикрытием религии вступивших в сговор с монгольскими хаганами, фактически была направлена против завоевателей. Боясь возмущения населения, правители в конечном счете были вынуждены ограничить число лам, приезжающих из Тибета. После падения династии Юань влияние буддизма в Монголии свелось к минимуму.
Буддизм в Монголии пользовался влиянием только в среде господствующего класса, широкие массы кочевников по-прежнему оставались шаманистами [645]. Перед нами стоит трудная задача — хотя бы вкратце осветить вопрос о шаманизме, который до сих пор изучен недостаточно.
В XIII–XIV вв. в Монголии особенно много шаманов и шаманок собиралось в тех случаях, когда монголам надо было принести жертвы предкам [646], духам обо [647]или огню [648](последнее жертвоприношение называлось «Йэсугэй эджэн-у чахигсан гал голумту тахи» — «принести жертву очагу-огню, зажженному владыкой Есугэем»). Кроме того, шаманы совершали камлание, читали заклинание и обращались к духам при совершении обрядов вызывания духов тороки [649], разгадывания снов [650], вызывания духов (сулдэ дагуда) [651], избавления от стихийных бедствий [652]и др. В период существования единого монгольского государства появились специальные пункты для шаманских жертвоприношений, которые назывались ситуэн [653]. Судя по сообщению «Тайной истории монголов» о том, что при возведении Тэмуджина в хаганы некий Хорчи помогал ему волшебством, последний, по-видимому, в то время был шаманом [654]. В. «Тайной истории монголов» содержатся сведения о том, что Чингис-хан, как и все его соплеменники, был истым шаманистом. Перед военным походом он взбирался на гору Бурхан-халдун, развязывал пояс и вешал его на шею. Шепча заклинание, он становился на колени и начинал молиться [655]. Но когда был не в духе, Чингис не боялся никаких грозных шаманов и сажал их в особую юрту в наказание [656].
Читать дальше