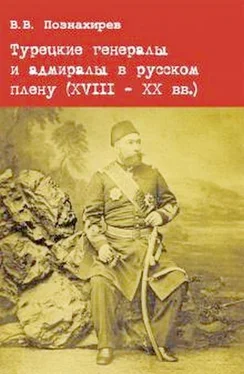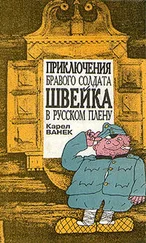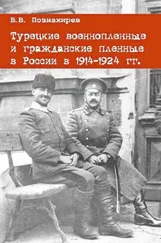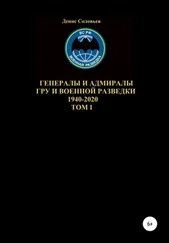3. Несмотря на глубокие культурные, религиозные и этнические различия, военачальников обеих сторон объединяло уже то, что и те, и другие:
— принадлежали к элитарному слою общества, т. е. обладали сравнительно высоким уровнем воспитания, образования, интеллекта, способностей и компетентности;
— вели сходный, в общем-то, образ жизни, стремились к одним и тем же целям, решали одинаковые задачи и наделялись примерно равным объемом прав, обязанностей и ответственности;
— в официальных отношениях придерживались достаточно близких этикетных моделей поведения, восходящих, преимущественно, к Античности и европейскому Средневековью.
4. Отдельные русские и османские генералы были знакомы друг с другом заочно и даже лично еще с довоенной (в вернее — «межвоенной») поры. Иных объединяла прошлая совместная работа или совместная служба. Например, М. И. Кутузов и его противник на Балканском ТВД в 1811–1812 гг. Ахмед-паша познакомились в 1793 г. в Стамбуле, где первый был послом России в Османской империи, а второй — чиновником МИД Турции. В свою очередь, генерал Н. Н. Муравьев и его противник в 1855 г. генерал Керим-паша [65] в 1833 г. вместе служили в составе российско-турецкого соединения, сформированного для борьбы с восставшим наместником Египта Мухаммедом Али [41].
5. Открытие военных действий нередко способствовало расширению и углублению связей между военачальниками обеих сторон, поскольку Главнокомандующие армиями (а с их разрешения — и командиры соединений), пользуясь своей относительной автономией, поддерживали официальную и даже неофициальную переписку с противником, дабы таким путем:
а) Решить те или иные текущие задачи. В частности, навести справки о судьбе лиц, пропавших без вести, а также заключить соглашение: об установлении либо продлении перемирия; об обмене пленниками или об оказании некоторым из них «особой заботливости»; о погребении военнослужащих, трупы которых при отступлении не удалось эвакуировать; о выработке системы сигналов для оповещения сторон относительно тех или иных неотложных действий, не требующих отправки парламентеров; о необходимости обратить особое внимание на неприкосновенность медицинских учреждений или принять на себя попечение о нетранспортабельных раненых противника и т. д.
б) Достичь отдельных тактических и оперативных целей. Например, в ходе переписки русские эпизодически пытались склонить того или иного пашу к соблюдению им нейтралитета, к капитуляции и даже к переходу на свою сторону. (К слову, склонять приходилось не всех. Некоторые (как, например, Балюль-паша [47]) сами искали сотрудничества [42]).
в) Укрепить сугубо личные связи с противником. Этому служили, главным образом, письма с поздравлениями по случаю повышения в должности, присвоения очередного воинского звания, награждения и т. п. (См., например, письмо М. И. Кутузова к Ахмед-паше от 20 апреля 1811 г., приведенное в Приложении 2). С такими письмами генералы могли передать друг другу небольшие подарки (чай, кофе, табак, цитрусовые и пр.) и даже взаимно освободить по несколько пленных в знак «обоюдного благорасположения» [43].
6. В ходе военных действий многие российские и османские военачальники в равной степени стремились избежать излишнего, по их мнению, кровопролития. В том числе и путем взаимного уклонения от вооруженной борьбы! Это хорошо видно из данных Таблицы 3, свидетельствующих о том, что в период с начала XVIII в. до начала XIX в. 28 основных турецких крепостей из 50 (или 56 % от их общего числа) были сданы русским на условиях почетной капитуляции (!), т. е. на условиях, предусматривающих право гарнизона (и гражданского населения) покинуть крепость со своим стрелковым вооружением и движимым имуществом и беспрепятственно переместиться на территорию, контролируемую оттоманской армией [44]. При этом османы лишались всей артиллерии, а также боевых и иных припасов, но сохраняли живую силу, почему и Петербург, и, особенно, Стамбул воспринимали такие капитуляции, скажем так, не вполне однозначно [45]. Тем не менее, к 1809 г. дело дошло до того, что генералитет обеих сторон фактически перестал бороться за крепости, а с началом следующей войны (1828–1829 гг.) успешно возобновил эту сомнительную практику (см. Разделы IV и V Таблицы З) [46]. Впрочем, тогда же султан Махмуд II решительно положил ей конец, применив к своим излишне сговорчивым подчиненным самые суровые меры наказания.
Завершая обзор данного аспекта рассматриваемого вопроса, считаем небезынтересным отметить, что отдельные почетные капитуляции включали нормы персонифицированного характера, относящиеся к тому или иному военачальнику. Например:
Читать дальше