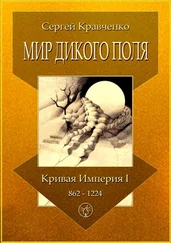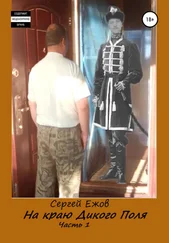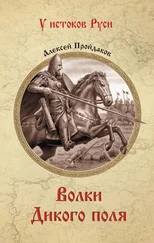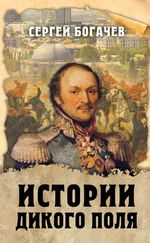Казнь князя Дмитрия Ивановича Вишневецкого вызвала широкий отклик если не в общественном сознании представителей «высшего света» стран Восточной Европы, то у некоторых из них. Как отмечал Д.И. Эварницкий (Яворницкий), некоторые из восточноевропейских авторов демонизировали саму процедуру казни и палачей: некий Леонард Горецкий писал о том, что турки, желая приобрести мужество и храбрость князя, вырвали у него сердце и, разрезав его на куски, съели [272] Эварницкий (Яворницкий) Д.И. История запорожских казаков. Т. II.
. Конечно, никакого каннибализма не было, этот сюжет — не более чем литературная выдумка, но он в полной мере отражает представление о казни князя Вишневецкого в среде образованной, а поэтому — религиозно-экзальтированной части польско-литовского высшего общества, в сознании которой турки (как и все мусульмане) отождествлялись с библейскими силами зла.
Однако наиболее интересной в исторической ретроспективе с морально-этической и психологической точки зрения представляется документально зафиксированная реакция на мученическую кончину князя Дмитрия Вишневецкого московского царя Ивана IV Васильевича, ярко характеризующая его религиозно-мистическое мировоззрение. Как следует из записей 1563 года во вкладной книге Новопечерского Свято-Успенского Свенского мужского монастыря, «в лето 7070 пожаловал благочестивый Царь и Великий Князь всея России, дал по князе Дмитрии Вишневецком в дом Пречистыя Богородицы отчину в белевском уезде, в домоглажской (точнее — Домогощской — О.К .) волости, друцком стану сельцо Студениково, а в том сельце церковь Пречистыя Богородицы да шесть деревень. И игумен с братиею учинили по князе Димитрии и по его слугах Кононе и Иване новокрещеном братиею корм болшой месяца октября 26 день: на память великомученика Димитрия Солунского и панихиду поют и обедню служат игумен собором. И имя князя Димитрия и слуг его Конона и Ивана в синодики в большой и в рядовой записано и поминают, доколи благословит Бог монастырю быть» [273] Евсеев И.Е. Описание рукописей, хранящихся в Орловском древ-ленхранилище. Вып. 2. Орел: Тип. Хализева, 1906. С. 228.
.
Царь Иван IV Васильевич оказался, пожалуй, единственным из восточноевропейских монархов, которым в разные годы служил князь Дмитрий Вишневецкий, отдавшим все необходимые церковно-религиозные почести памяти своего слуги и его сподвижников. И место вечного поминовения князя он выбрал не случайно: Новопечерский Свято-Успенский Свенский монастырь в Брянском уезде считался подворьем Киево-Печерской Лавры, а его главный храм Успения Пресвятой Богородицы был посвящен памяти первой жены царя Ивана IV Анастасии Романовны Захарьиной-Юрьевой. В результате князь Дмитрий был поминаем и при Рюриковичах, и при их преемниках на царском престоле…
Поминается его память и в наши дни монахинями восстановленного Новопечерского Свято-Успенского Свенского монастыря.
Посмертная жизнь князя Вишневецкого
Жизнь и трагическая смерть князя Дмитрия Вишневецкого оказали огромное влияние на формирование мировоззрения малороссийского субэтноса, и особенно — той его части, которую во второй половине XIX столетия было принято именовать разночинной интеллигенцией. Именно в среде этого образованного, но лишенного сословных устоев слоя населения юго-запада европейской части Российской империи, входившего в состав Киевского генерал-губернаторства, зародилась идея украинской национальной самостийности, нуждавшаяся в апостолах сепаратистской идеологии — мучениках и легендарных героях «национально-освободительной борьбы» за формирование и существование местечковой квазигосударственности.
В результате многолетней субкультурной интеллектуальной селекции князь Дмитрий Иванович Вишневецкий был выдвинут в число основателей запорожского казачества, являющихся, согласно идеологии украинской национально-государственной самостийности, основоположниками украинского этноса.
Во введении к нашей работе мы уже говорили о том, каким образом в XIX столетии происходило постепенное «оказачивание» личности князя. Особую роль в этом процессе сыграли А.И Ригельман, Д.Н. Бантыш-Каменский и Н.А. Маркевич, с легкой руки которых образ князя стал ассоциироваться в общественном сознании просвещенной части населения юго-западных губерний Российской империи того времени с днепровским казачеством и его сословно-корпоративной организацией — королевским реестром, его полками и их антитезой — запорожским казачьим войском. Именно они провозгласили его «гетманом» запорожских казаков, которых во время жизни князя как самостоятельного социального явления еще не существовало, именно они впервые отождествили укрепления на острове Хортица, именуемые во всех делопроизводственных документах Великого княжества Литовского не иначе как «замком» (не «сечью» или «січью» и не «кошем») с более поздними местами концентрации представителей казачьей корпорации. Как представляется, сделали они это не намеренно, а скорее, в силу морфологической ограниченности терминологии исторической науки того времени.
Читать дальше
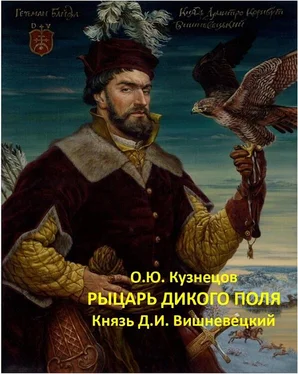
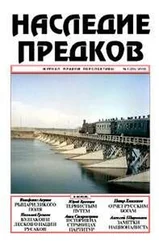
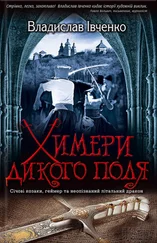
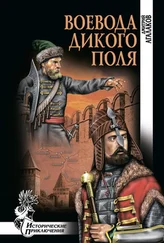
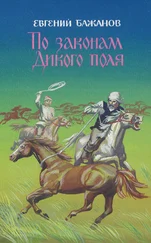
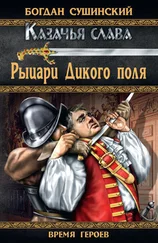
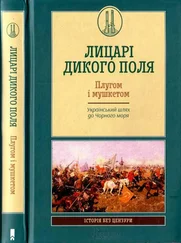
![Сергей Ежов - На краю Дикого Поля [СИ]](/books/428370/sergej-ezhov-na-krayu-dikogo-polya-si-thumb.webp)