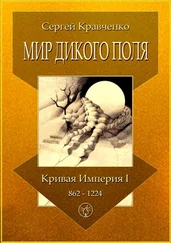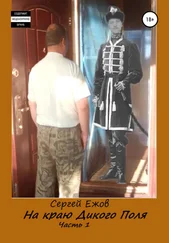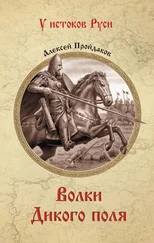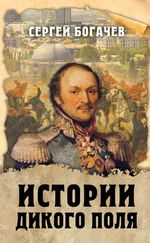Тем не менее, мы с полной уверенностью можем говорить об идеологической ангажированности и, следовательно, ошибочности подобных представлений о личности князя Дмитрия Ивановича Вишневецкого и его роли в украинской, российской и, вообще, восточноевропейской истории, что и беремся доказать в данной монографии. Мы утверждаем, что князь Дмитрий Вишневецкий никогда не имел никакого отношения к Запорожской Сечи, и уж тем более — к Запорожскому казачьему войску, если и предводительствовал днепровскими казаками — так называемыми «черкасами», то не как атаман или гетман, а исключительно как королевский наместник в этих землях, а сами днепровские казаки в середине XVI века не имели никакой корпоративной организации или самоуправления и находились от князя Вишневецкого в личной административной и имущественной зависимости, как и иные категории населения тех мест. Однако князь вошел в историю как талантливый военачальник и ревнитель Православия, но при этом и как весьма посредственный администратор и беспринципный политик, словом, как человек своего далеко непростого времени — Средневековья — со всеми его достоинствами и недостатками. А поэтому предметом нашего исследования стали не оценки последствий деяний этого, безусловно, выдающегося человека, на основе которых спустя века строились разного рода идеологические конструкции, а непосредственное содержание и прямые последствия этих деяний в контексте соответствующих им исторических условий. Иными словами, данная монография посвящена жизни и деятельности князя Дмитрия Ивановича Вишневецкого, а не ангажированным представлениям о них.
Основным способом получения информативного материала о событиях и деятелях восточноевропейского позднего Средневековья являются источниковедческие исследования. В первую очередь, их объектом стали произведения русского, белорусского и литовского летописания — летописи, летописцы, хроники, в совокупности представляющих собой комплекс нарративных источников, богатый информационно и фактологически, но зачастую крайне неоднозначный в оценках и суждениях их авторов (составителей или редакторов). Наиболее широко используемой среди этих памятников исторической литературы является знаменитая «Книга степенная царского родословия» [11] Полное собрание русских летописей (далее — ПСРЛ). Т. XXI. Книга степенная царского родословия / отв. ред. М.Н. Тихомиров. М.: Наука, 1963.
, сведения которой широко использовались большинством всех исследователей, начиная с А.И. Лызлова и заканчивая В.В. Каргаловым, А.В. Виноградовым и автором этих строк (зачастую ее материалы приводились в печати без указания источника, чем особо отличался Н.И. Костомаров). И это не удивительно, поскольку она была составлена в 1563 году по инициативе митрополита Макария царским духовником протопопом Андреем (впоследствии — митрополитом Афанасием), и по дате своего составления максимально приближена ко времени жизни князя, погибшего в год завершения ее написания. Многочисленные упоминания о походах и битвах князя Вишневецкого мы также находим в Никоновской [12] ПСРЛ, изданное по Высочайшему повелению Императорской Археологической комиссией. Т. XIII. Ч. I–II. Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1904.
, Лебедевской [13] ПСРЛ. Т. XXIX. Летописец начала царствования царя и великого князя Ивана Васильевича. — Александро-Невская летопись. — Лебедевская летопись / отв. ред. М.Н. Тихомиров. М.-Л.: Наука, 1965.
и Евреиновской [14] ПСРЛ. Т. XXXV. Летописи белорусско-литовские / под ред. Б.А. Рыбакова, В.И. Буганова, Н.Н. Улащика. М.: Наука, 1980.
летописях, Мазуринском летописце [15] ПСРЛ. Т. XXXI. Летописцы последней четверти XVII века / под ред. Б.А. Рыбакова и В.И. Буганова. М.: Наука, 1968.
, хронике Литовской и Жмойтской [16] ПСРЛ. Т. XXXII. Хроники: Литовская и Жмойтская, и Быховца; Летописи: Баркулабовская, Аверки и Панцирного / под ред. Б. А. Рыбакова, В.И. Буганова. М.: Наука, 1975.
. Часть из них (например, Никоновская и Лебедевская летописи) за единичными и частными исключениями текстуально копируют друг друга, другие (как, например, Мазуринский летописец по отношению к Лебедевской летописи) представляют собой компиляции из текстов более ранних по происхождению памятников летописания, третьи (как хроника Литовская и Жмойтская) являются единственным известным нам летописным источником о деятельности князя Вишневецкого до и после его службы Московскому государству.
Читать дальше
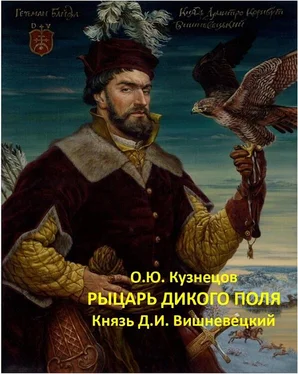
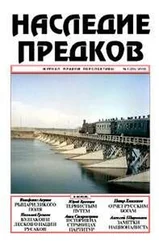
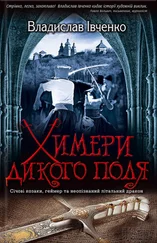
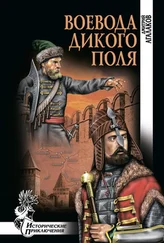
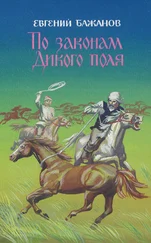
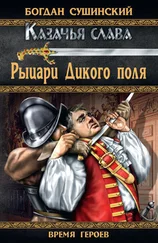
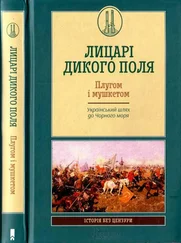
![Сергей Ежов - На краю Дикого Поля [СИ]](/books/428370/sergej-ezhov-na-krayu-dikogo-polya-si-thumb.webp)