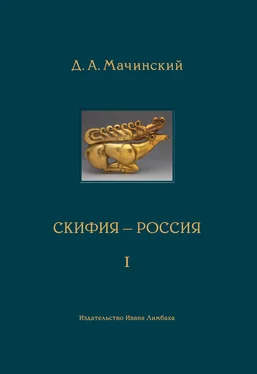Определив подобным образом скифскую эпоху, Д. А. Мачинский много сделал для прояснения основного закона степной Евразийской Скифии: неуклонного движения кочевых орд с востока на запад, выраженного в постоянной пульсации «азиатского источника» миграций периодически сменяющихся волн кочевников — от скифов до татаро-монголов, объясняемого не только военным преобладанием восточных номадов над западными степняками, но и теми условиями, в которых оказывались кочевники в Европейской Скифии, окруженные разнородными (и в целом враждебно настроенными к кочевникам) культурными провинциями горных областей Кавказа и Прикарпатья, лесостепной зоны и побережья Черного моря. Для удержания ситуации кочевникам в Северном Причерноморье требовалось много сил, и когда в созданной ими системе политического господства появлялись определенные конкретной ситуацией сбои, рушилась вся система, а вместе с ней почти мгновенно рассеивался и создававший эту систему этнос.
Занимаясь в рамках скифской эпохи различными аспектами культуры народов Евразии VIII–IV веков до н. э., Д. А. Мачинский <���…> стремится проследить за культурными процессами, уходящими в перспективу «от эпохи великих духовных откровений и этносоциоэкономических новаций (VIII–V века до н. э.), охвативших всю Евразию, до окончательного сложения европейской христианской феодализирующейся культурно-политической общности (XI век)» (Мачинский 1988в: 6). На этом пути вполне закономерной является причастность Д. А. Мачинского к решению ряда проблем совершенно другого уровня, относящихся к кругу вопросов славянского этногенеза.
Как уже отмечалось выше, свою научную деятельность Д. А. Мачинский начинал с изучения эпохи перехода от поздней античности к раннему Средневековью — с работы над зарубинецкой тематикой. Этому был посвящен его университетский диплом, на эту тему готовилась диссертация, к сожалению по ряду обстоятельств так и не завершенная.
Впервые, параллельно с Ю. В. Кухаренко (1960), но независимо от него и своим путем Д. А. Мачинский вышел на поморскую версию происхождения зарубинецкой культуры (Мачинский 1966б). Впервые им был поставлен вопрос о единстве и взаимосвязанности процессов, приведших к сложению зарубинецкой, поянешты-лукашевской и пшеворской культур (Мачинский 1965б; 1966а; 1966б). Впервые (по отношению к юбиляру приходится очень часто употреблять это слово) им была отмечена роль кельтов в этом процессе и выявлены следы их физического присутствия в Северном Причерноморье (Мачинский 1973а) [5] Подробнее об этом см.: Щукин М. Б. Проблема бастранов и этнического определения поянешты-лукашевской и зарубинецкой культур // Скифы. Сарматы. Славяне. Русь. С. 89–95 (Щукин 1993).
.
Но уже и тогда, в 60-е годы, это была лишь часть научных интересов Д. А. Мачинского. Больше всего, пожалуй, его занимала острая проблема происхождения славян. И не случайно его первые экспедиции были экспедициями под руководством И. И. Ляпушкина. И зарубинецкая тематика в этом контексте неслучайна: в те времена ее всегда рассматривали как часть славянской проблематики. При всей широте своих интересов Д. А. Мачинский — в первую очередь славист.
А нужно сказать, что в те годы славянская проблематика зашла в тупик. Открытие достоверных раннеславянских памятников с их небольшими бедными поселениями и исключительно лепной примитивной посудой начисто подрывало гипотезы происхождения славян от носителей черняховской, пшеворской или зарубинецкой культур с прекрасной лощеной керамикой и обилием фибул, пряжек, гребней и т. д. Это чувствовали многие, в том числе и Д. А. Мачинский. Постзарубинецкие древности киевского типа еще не были, по сути дела, открыты; первые находки, еще не осмысленные, только начинали появляться. Более северные районы лесной зоны Восточной Европы выпадали из поля зрения археологов-славистов, поскольку это область балтской топонимики, хотя еще в 1972 году Иохим Вернер призывал советских славистов преодолеть эти «чары балтийства». В этих условиях Д. А. Мачинский сделал в 70-х годах попытку приблизиться к решению проблемы в серии докладов и статей. Он попытался по-новому взглянуть на данные письменных источников о славянах и венедах-венетах (Macinsky 1974; Мачинский 1976; Мачинский, Тиханова 1976).
Так, в отличие от устоявшейся точки зрения польских исследователей, он иначе трактовал данные Плиния о загадочном полуострове Энингия, где живут сарматы, венеды, скиры и гирры. Если у польских ученых получалось, что земля, лежавшая напротив полуострова кимвров (Ютландия) — это низовья Вислы, то Д. А. Мачинский указал на полуостров Курземе, где есть река Вента и еще в Средневековье жили некие вентийцы. И достаточно беглого взгляда на карту Балтийского моря, чтобы убедиться в правоте Д. А. Мачинского.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу