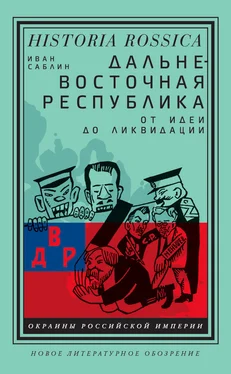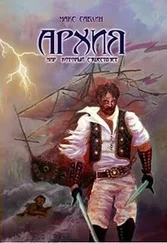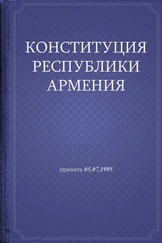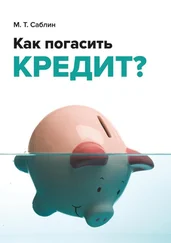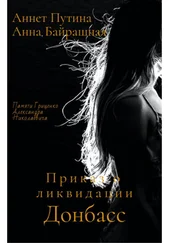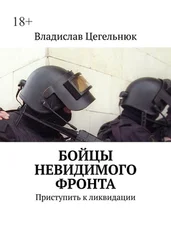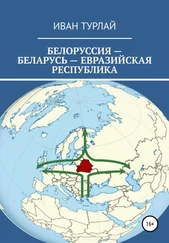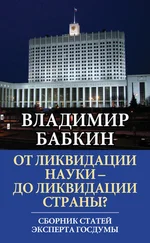Семёнов в ходе этого конфликта поддержал японцев, что подорвало его позиции и оттолкнуло от него многих каппелевцев. В конце апреля 1920 года Войцеховский ушел в отставку и отправился в Крым к Петру Николаевичу Врангелю, принявшему на себя после отставки Антона Ивановича Деникина пост главнокомандующего Вооруженными силами Юга России [518] Дальневосточная политика Советской России. C. 46–48; Атаман Семёнов. Вопросы государственного строительства. C. 86–87.
. Семёнов, воспроизводя официальную японскую позицию, утверждал, что Японии необходим заслон от большевиков, позволяющий защищать ее интересы в Корее и Маньчжурии, а таким заслоном может стать лишь «мощный русский государственный плацдарм». Впрочем, он не подразумевал под этим создание буферного государства, критикуя Парижскую мирную конференцию как «мастерскую буферных государств, созданных за счет России», и заявлял о воссоздании единой России с помощью Японии как о своей главной цели. Семёнов попытался укрепить свои позиции, удовлетворив предполагаемый запрос на демократию, и 21 апреля 1920 года приказал сформировать законодательное собрание – Народное краевое совещание из казачьих, бурятских и крестьянских делегатов, которое должно было включить в свой состав и представителей других областей Дальнего Востока по мере их присоединения к усилиям по восстановлению русской государственности [519] Вечер. 1920, 6 мая. С. 2; Атаман Семёнов. Вопросы государственного строительства. С. 79–80, 83–86.
. Но уступки демократии, сделанные Семёновым, не перевесили оборонческий национализм, направленный против Японии. Хотя в начале мая 1920 года вместе с каппелевцами он располагал бóльшими силами, чем 15-тысячная Народно-революционная армия, он так и не сумел мобилизовать население [520] Шли дивизии вперед: народно-революционная армия (Дальневосточной республики) в освобождении Забайкалья, 1920–1921: Сб. документов / Сост. В. О. Дайнес, В. Г. Краснов, Т. Ф. Каряева, В. В. Боброва, Н. Е. Елисеева, В. М. Михалёва, М. В. Стеганцев. Иркутск: Восточно-Сибирское кн. изд-во, 1987. С. 122–123, 141–142.
.
Неравный договор владивостокского правительства и японских представителей, выработанный согласительной комиссией и подписанный 29 апреля 1920 года, способствовал дальнейшему росту антияпонских настроений. Весьма символичным было сходство этого договора, практически оставившего Временное правительство Дальнего Востока без армии и почти без гражданской власти, а также установившего нейтральную зону вдоль железной дороги, с Двадцатью одним требованием, выдвинутым Японией Китаю в 1915 году [521] РГИА ДВ. Ф. Р-4699. Оп. 1. Д. 201. Л. 3 (Доклад Леонова о положении ДВР, политике Краснощекова – для Кушнарёва, 20 сентября 1921 г.); Дальневосточная республика. Становление. Борьба с интервенцией. Т. 1. С. 146–147.
.
Некоторые либералы и умеренные социалисты надеялись, что растущее национальное согласие приведет к возрождению демократии. «Вечер» утверждал, что «дальневосточная окраина» останется российской, лишь если все группировки к востоку от Байкала, от cоветов Амурской области до каппелевцев, объединятся в одном государстве, пойдя на уступки друг другу. Народовластие обеспечит гражданский мир и позволит добиться поддержки американских и европейских демократов в мирной борьбе с Японией. Чтобы и «массы», и Антанта доверяли владивостокскому правительству, в него должны входить как социалисты, так и несоциалисты. Экономика буферного государства должна быть капиталистической, что не отменяет государственной поддержки кооперации. Умеренные социалисты и либералы вернулись к методам 1917 года, отстаивая представительную демократию и конституционализм в прессе и лекциях. Признавая, что большевики популярны среди народа, и констатируя, что несоветское государство создается в первую очередь для Антанты, «Вечер» вместе с тем утверждал, что эту популярность сложно измерить, поскольку многочисленные пробольшевистские резолюции, принимающиеся на местах, обычно составляются заранее и проталкиваются горсткой партийных активистов [522] Вечер. 1920, 30 апреля. С. 1, 4; 1920, 10 мая. С. 1–2.
.
В отличие от Верхнеудинска и Читы Владивосток не ограничился декларациями и в апреле – мае 1920 года заложил основу полудемократического режима. Борис Евсеевич Сквирский, левый эсер, вступивший в партию большевиков, утверждал, что лишь правительство, стоящее на «чисто демократической» позиции и опирающееся на земство, может спасти российский Дальний Восток. Кушнарёв выступал против восстановления земств там, где они уже были отменены. Он также не желал «четыреххвостки» (всеобщих, прямых и равных выборов при тайном голосовании). Никифоров поддерживал Кушнарёва, утверждая, что японское командование стремилось обезоружить российские войска и изменить экономическую политику, но ему нет дела до политической системы. Однако Медведев и меньшевик Кабцан настаивали на возвращении всеобщего избирательного права. Большевики уступили, и Никифоров возглавил коалиционный кабинет министров, получивший название Совета управляющих ведомствами, подобно кабинетам предшественников – Комуча и Иркутского политического центра [523] РГИА ДВ. Ф. Р-534. Оп. 2. Д. 202. Л. 2–9 (Протокол экстренного заседания Временного правительства Приморской областной земской управы, 14 апреля 1920 г.); Д. 203. Л. 1–8 (Протокол экстренного заседания Временного правительства Приморской областной земской управы, 15 апреля 1920 г.); Л. 34–38 (Протокол экстренного заседания Временного правительства Приморской областной земской управы, 5 мая 1920 г.).
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу