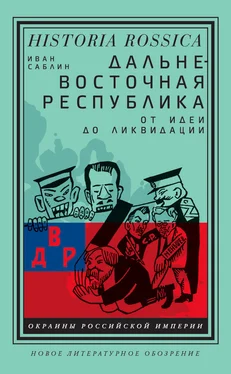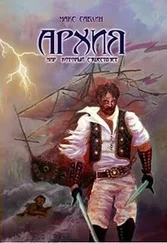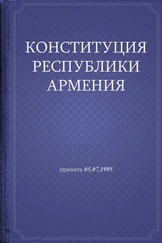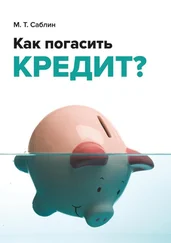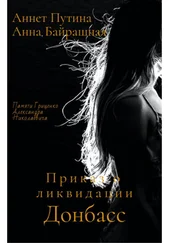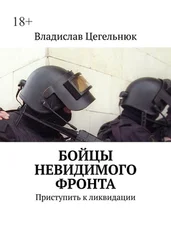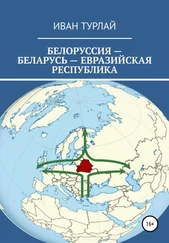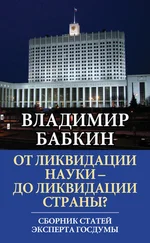Проблемы со связью между верхнеудинскими и владивостокскими большевиками привели к формированию двух просоветских государств на Дальнем Востоке, но свою роль сыграло и соперничество между членами партии. Виленский, считавший Краснощёкова ответственным за падение cоветской власти в Сибири в 1918 году, и ряд других большевиков высказывали сомнения в благонадежности Краснощёкова и его способностях как руководителя. Кроме того, некоторые большевики, в том числе и те, в чьем ведении находилась Народно-революционная армия, по-прежнему выступали против самой идеи буферного государства. Гончаров и Ширямов, два верхнеудинских члена Дальбюро, не поддержали проект Краснощёкова и начали военную операцию против Читы. Хотя партизаны под командованием большевика Д. С. Шилова содействовали операции, атаковав Семёнова из Амурской области, японские войска Судзуки Сороку помогли Семёнову отбить нападение. Эта неудача не покончила с расколом в Дальбюро. Гончаров выступал против назначения в Дальбюро Игнатия Леоновича Юрина (Игнация Гинтовт-Дзевалтовского), который поддерживал Краснощёкова и убеждал Смирнова отозвать всех противников буферного государства. Заместитель наркома иностранных дел Лев Михайлович Карахан, председатель Иркутского губернского революционного комитета Яков Давидович Янсон и другие большевистские деятели тоже с сомнением относились к заявлениям Краснощёкова о том, что особые экономические и политические условия российского Дальнего Востока требуют его формальной независимости [512] РГИА ДВ. Ф. Р-4699. Оп. 1. Д. 69. Л. 3–4 об. (Протокол заседания правительства ДВР, 19 апреля 1920 г.); Дальневосточная политика Советской России, 1920–1922 гг.: Сб. документов Сиббюро ЦК РКП(б) и Сибревкома. C. 30–31, 58–59, 62–66.
.
Хотя Владивостокский инцидент, казалось, доказал, что город слишком уязвим, чтобы быть центром буферного государства, последствия японского нападения оказались куда более благотворными для владивостокского правительства, чем Краснощёков или японское командование могли ожидать. По словам Никифорова, когда японское командование в ходе нападения попыталось создать новое правительство, Иван Иннокентьевич Циммерман, Василий Георгиевич Болдырев и другие владивостокские несоциалисты отказались участвовать в нем [513] Никифоров П. М. Записки премьера ДВР. М., 1963. С. 192–194; Руднев С. П. При вечерних огнях: воспоминания. С. 306–307.
. Вместо этого многочисленные интеллигенты, политики и военнослужащие самых разных политических взглядов – кадеты, Торгово-промышленная палата, Биржевой комитет, социалистические партии, профсоюзы и другие организации – сплотились вокруг Временного правительства Дальнего Востока, называя фактическую японскую оккупацию Приморской области «великим национальным бедствием и глубоким унижением русского национального достоинства и суверенитета» [514] Дальневосточное обозрение. 1920, 9 апреля. С. 3–4.
. Умеренные социалисты и либералы из зоны отчуждения КВЖД тоже встали на сторону владивостокского правительства [515] РГИА ДВ. Ф. Р-534. Оп. 2. Д. 319. Л. 34–35 об. (Председателю Временного правительства Приморской областной земской управы от Объединенной конференции профессиональных, железнодорожных и городских союзов, политических партий и общественных организаций г. Харбина, 22 апреля 1920 г.).
. Железнодорожные служащие отказались выходить на работу, что привело к сокращению движения по железной дороге: теперь ею пользовались только японские военные, а их перемещение обеспечивали японские служащие. Железнодорожная стачка, поддержанная другими рабочими, привела к нехватке продовольствия и горючего. Поскольку и на международном уровне японское выступление тоже не получило поддержки, японское командование позволило владивостокскому правительству вернуться к выполнению своих обязанностей [516] United States Department of State. 1920. Vol. 3. P. 509–510.
.
Опыт японского империализма создал потенциал для широкой поддержки ДВР в Восточной Азии не только с социалистических, но и с оборонческо-националистических позиций. В первую годовщину восстания 1 марта в Корее «Голос Родины» указал на солидарность корейцев и русских, страдающих от японской оккупации, которая стала лишь крепче после японского нападения на русских и корейцев 4–5 апреля 1920 года. «Дальневосточное обозрение» утверждало, что антияпонские настроения русских и корейских социалистов разделяют и китайские торговцы, в остальных отношениях консервативно настроенные. «Шанхайская жизнь», находившаяся под контролем большевиков, писала, что Корея и Китай являются для России «естественными союзниками в общей борьбе за право устраивать самим свою жизнь», но одновременно с этим указывала на отсутствие в России интереса к событиям в Восточной Азии [517] РГИА ДВ. Ф. Р-4686. Оп. 1. Д. 1. Л. 54 (ДальТА – представителю ДВР в Москве, 26 сентября 1920 г.); Корейцы на российском Дальнем Востоке. Кн. 2. С. 60–64, 79–81, 124–129, 148–151, 166–168, 185–186.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу