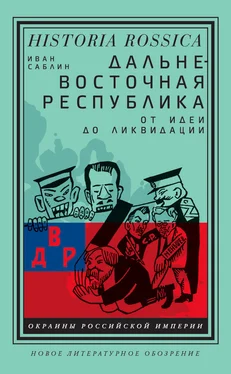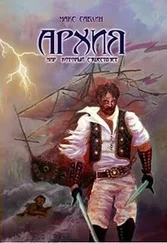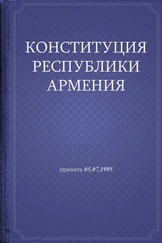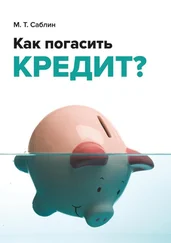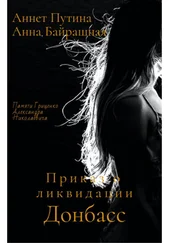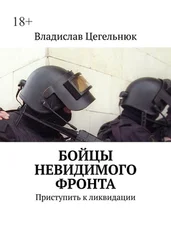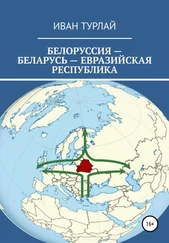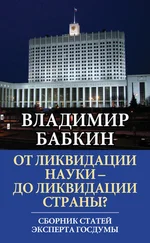5 января 1920 года НРА взяла Иркутск, и Политцентр прервал переговоры, оставив дипломатическую ситуацию неразрешенной. Сибирское народное собрание, парламент, должно было стать главным органом нового правительства. До его созыва Политический центр передал свою власть Временному совету Сибирского народного управления, состоявшему из делегатов от партий, местных органов самоуправления, кооперативов и профсоюзов. Делая упор на местные интересы, Политцентр отменил одну из реформ омского правительства, вернув органам самоуправления контроль над милицией. Подчеркивая свой региональный, а не всероссийский статус, Политцентр создал не министерства, а ведомства, подчинявшиеся исполнительному Совету управляющих ведомствами [440] Использование этого названия для исполнительных органов власти можно также считать указанием на их временный характер до созыва Учредительного собрания.
. То же самое название использовал и Комуч (его вооруженные силы носили название Народной армии). Таким образом, Политцентр подчеркивал свою верность демократическому наследию Учредительного собрания и Февральской революции. В соответствии с леволиберальной идеей пересборки российской нации снизу вверх местную и региональную самоорганизацию следовало сделать основой демократического государственного строительства. Демократическая Сибирь не мыслилась как центр воссоединения России, но ее возникновение было тем не менее необходимым условием для появления единой революционной России. Политцентр также подтвердил цель создания «однородно-социалистического» правительства [441] ГАРФ. Ф. Р-341. Оп. 1. Д. 1. Л. 5 (Постановление Политического центра о созыве Временного совета Сибирского народного управления, 5 января 1920 г.); Л. 6–6 об. (Положение о Временном совете Сибирского народного управления, 3 января 1920 г.); Л. 11 (Постановление Политического центра о передаче милиции в ведение земских и городских самоуправлений, 5 января 1920 г.); Д. 92. Л. 3 об. – 4, 9, 10 об. (Стенографический отчет заседания Временного совета Сибирского народного управления, 12 января 1920 г.).
.
Хотя, по мнению эсеров и меньшевиков из Временного совета Сибирского народного управления, «ни одна партия или общественная организация» не могла возглавить демократическое движение, они сформулировали новую версию российской исключительности, указав на уникальность небуржуазной русской революции, которая является частью взлета «мировой демократии», но вместе с тем играет исключительно важную роль в полном освобождении человечества. Революция направлена не только против «твердынь автократического строя», но и против самых основ «буржуазно-капиталистических отношений». Новое сибирское правительство было националистическим: оно стремилось к восстановлению Российского государства и защите «национальной чести и территории» от иностранных империалистов, Вместе с тем оно отвергало идею «единого национального фронта», потому что умеренные социалисты не верили, что революционно-демократические и имущие элементы могут когда-либо объединиться. Первое заседание Всероссийского учредительного собрания представлялось основой социалистической пересборки российской нации, с социализацией земли, превращением кооперативов в основу продовольственной сферы и поддержкой местного и классового самоуправления рабочих и крестьян [442] ГАРФ. Ф. Р-341. Оп. 1. Д. 92. Л. 5 об., 9–11 (Стенографический отчет заседания Временного совета Сибирского народного управления, 12 января 1920 г.).
.
Нерешительная позиция США в конце декабря 1919 года – начале января 1920 года (возможно, обусловленная состоянием Вильсона после перенесенного им в октябре 1919 года инсульта), по-видимому, поставила под угрозу план кондоминиума, который поддерживали японские гражданские власти. В то время как правительство Хары еще не знало об американском решении вывести войска, Грейвс уже сообщил японскому командованию на Дальнем Востоке о плане покинуть Сибирь [443] United States Department of State. 1920. Vol. 3. P. 486–487, 491–492.
. Генеральный штаб во главе с Уэхарой немедленно начал прощупывать общественное мнение на предмет возможной японской оккупации всей Восточной Сибири как средства защиты Восточной Азии от большевизма. 6 января 1920 года газета «Сентрал Чайна Пост» (Ханькоу) утверждала, что «Япония получила от США ‹…› дозволение оккупировать Восточную Сибирь», но в то же время указывала на соперничество двух тихоокеанских держав [444] JACAR. Reference Code B03051227800, 11–12 (газетные вырезки).
. 9 января последовал официальный меморандум Лансинга, который, казалось, поддерживал этот же подход, тем самым подрывая позиции гражданских властей Японии в сибирском вопросе. Следующий меморандум Государственного департамента США японскому послу от 30 января 1920 года подтвердил, что США одобряют одностороннюю политику Японии в Сибири, но подчеркнул, что она должна соответствовать изначальным целям интервенции Антанты, которые, безусловно, не включают в себя оккупацию территории России [445] United States Department of State. 1920. Vol. 3. P. 487–490, 500–501.
. Одностороннее решение США о выводе войск имело огромные последствия как для японско-американских отношений, в которых оно посеяло семена недоверия, так и для политической ситуации в Токио, где в начале 1920 года партия армии сумела одержать верх над другими политическими группировками [446] Shusuke T . America’s Withdrawal from Siberia and Japan-US Relations // The Japanese Journal of American Studies 24, 2013. Р. 87–103.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу