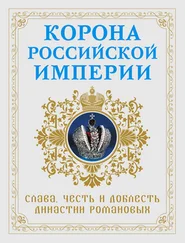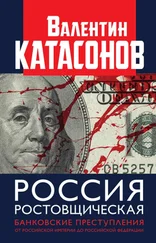Собрание было очень людное и проходило при повышенно возбужденном настроении. Юристы не могли не чувствовать, что почва закона, не говоря уже дисциплины и порядка, начинает уходить из-под ног благодаря бездействию и бессилию власти. Правительство, выбросившее из своей среды, в угоду Ленину и К°, наиболее надежных своих представителей, доминировалось теперь на все готовыми авантюристами и интриганами вроде Чернова, Некрасова и им подобных. Чувствовалось отчетливо, что момент близок для вооруженной анархии, если будет упущен и последний момент для обуздания вполне безнаказанной большевистской пропаганды.
Молодой стажер появился не один, его сопровождала группа его соумышленников. Вырвался он со своею страстною и запальчивою речью неожиданно стремительно. Пробовали ему шикать и заставить замолчать. Но я настоял на сохранении порядка и дал ему договорить до конца при абсолютной, хотя и через силу сдерживаемой, тишине собрания.
Я рад был случаю разобраться публично в его искрометных, бравурных призывах к спасительному большевизму, который надвигался уже отовсюду и не получал ниоткуда отпора.
Речь моя, по постановлению общего собрания присяжных поверенных, была отпечатана и разослана всем советам других судебных округов. Раздавалась она также и молодым стажерам при их приеме. В одной из столичных газет она появилась вскоре целиком, в других были приведены выдержки из нее.
Множество сочувственных и благодарственных писем, которые я получил при появлении этой речи в печати, было показателем тревожных переживаний среди общей мути опьянелого, до потери рассудка, настроения улицы.
Речь эта не прошла не отмеченною и зоркими цензорами от большевизма. Дня через два, после того как она была оглашена в печати, бывший сенатор Кривцов, которого я вполне мирно сменил в должности председателя комиссии, участливо сообщил мне по телефону:
– Николай Платонович, считаю долгом вас предупредить. Кто предупрежден, тот отчасти уже огражден… ваша прекрасная речь, которую я читал с наслаждением, угрожает вам неприятностями… Моя прислуга бегает на все митинги и дежурит по часам в очередях и мясных, и булочных. Сейчас она принесла новость: большевики пускают директивы разгромить ваш дом за публичное выступление против большевизма. Примите меры!..
Но какие меры можно было тогда принимать. Я только по ночам, возможно, позднее караулил, чтобы в случае нападения успеть вовремя поднять жену и детей и выпроводить их в безопасное место.
Неподалеку от нас проживал наш большой давний друг, персидский посланник Исаак-Хан. К нему в посольство, «сесть в бест», т. е. укрыться, и могла бы моя семья.
Нападения, однако, в ближайшие дни и даже в течение двух недель не последовало.
Наша прислуга «Марина», ставшая окончательно большевичкой и от которой до отъезда нашего невозможно было бы отделаться, однажды таинственно сказала мне:
– Что вы не едете за границу?.. В газетах было давно пропечатано, что вас посылают к нашим военнопленным… Ехали бы, что ли!..
Был момент, когда «бескровная» (Sic!) революция, казалось, смела все преграды, открыла все пути ко благу страны, но – увы! – она не сделала зрячими тех, кого вскинула на вершину революционной волны. Они оказались слепорожденными.
– Ах, как дышится легко! – восклицали восторженно на первых порах женские интеллигентные уста в предвкушении политического и всякого иного равноправия, те самые уста, которые сейчас искривлены трагическими складками при зрелище мрущих от голода детей и расстреливаемых отцов, мужей и братьев.
Мне и тогда не дышалось легко.
С первых же дней революции и после феерического отречения я не предавался иллюзиям. Я ясно видел, что это, в сущности, даже не революция, идущая, как неудержимый поток, из глубины народной совести, а только беспорядочная свалка между представителями старой, позорно капитулировавшей власти и случайными захватчиками ее.
Кульминационный пункт давних счетов между царским правительством и апологетами революции. Свалка двух довольно поверхностных, хотя и бурных течений. Борьба за власть, и только за власть, двух почти равносильно, беспочвенных элементов: одного – изжившего, другого – нежизнеспособного.
Заполнявшая Петроград и его окрестности войсковая недисциплинированная масса была элементом, готовым к восприятию каких угодно директив, лишь бы ее не заставляли идти на фронт, в окопы, а распустили по домам. Парадирование войсковых частей перед Государственной думой весьма скоро превратилось в простую забаву и даровое развлечение, а не серьезное преклонение перед престижем новой, как все на первых порах рассчитывали, «думской власти».
Читать дальше
![Николай Карабчевский Дело о гибели Российской империи [litres] обложка книги](/books/386642/nikolaj-karabchevskij-delo-o-gibeli-rossijskoj-impe-cover.webp)


![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/325656/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii-thumb.webp)