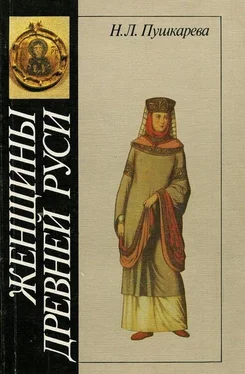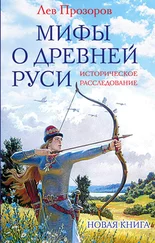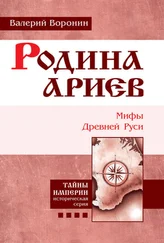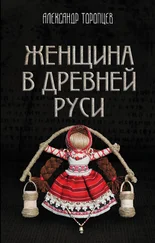Позднейшая легенда (XVI в.) передает сказание о том, как однажды киевский князь Игорь охотился в лесах у Пскова. Здесь он встретил на своем пути реку и, увидев стоявший у берега челн, попросил перевезти его. Перевозчиком оказалась крестьянская девушка Ольга. Игорь был поражен ее умом. Когда же он, «некие глаголы претворяше к ней», получил отпор на свои «стыдные словеса», то, согласно легенде, тогда же и посватался к ней. Сообщения летописи о происхождении Ольги имеют мало общего с бесхитростным народным повествованием. По летописной традиции, Ольга была «приведена» в Киев в качестве будущей жены Игоря его родственником («от рода ему сущий», сказано в летописи) князем Олегом из «Плескова» (Пскова) [24] См.: Мавродин В. В . Древняя Русь. Происхождение русского народа и образование Киевского государства. М., 1946. С. 184; ПСРЛ. Т. II. С. 21.
. Вряд ли можно сомневаться в том, что она была псковитянкой из знатной семьи, а не крестьянской девушкой [25] Согласно агиографической концепции, Ольга считается поселянкой с. Выбутина (Лыбутина), то дочерью (правнучкой) некоего Гостомысла, то дочерью половецкого князя (см.: РБС. Т. 12. СПб., 1905. С. 241–243). Дебатировался вопрос и о варяжском происхождении Ольги, однако, например, Е. А. Рыдзевская утверждала, что «считать Ольгу норманкой нет оснований» (см.: Рыдзевская Е. А . Древняя Русь и Скандинавия. IX–XIV вв. М., 1978. С. 195).
.
В годы замужества [26] А. Н. Сахаров вслед за В. Н. Татищевым считает, что княгиня родилась в конце IX в.; Г. Г. Литаврин на основе «Проложного жития Ольги» называет также 894 г.; Б. А. Рыбаков полагает годами рождения княгини 923–927 гг., не считая достоверным «приведение» Ольги Игорю в 903 г. (см.: Сахаров А. Н . Дипломатия древней Руси. IX — первая половина X в. М., 1980. С. 262, 276, 285; Литаврин Г. Г . О датировке посольства княгини Ольги в Константинополь // История СССР. 1981. № 5. С. 177; Рыбаков В. А . Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. М., 1982. С. 369).
Ольга обрела ту самую «мудрость», которая позволила ей выдвинуться после смерти князя Игоря в правительницы Русского государства, пока сын ее и Игоря — Святослав был «детеск». Любопытно, что в перечне состава посольства Игоря в Константинополь в 944 г. третьим послом (вслед за послами Игоря и Святослава) назван Искусеви «Ольги княгини». Наряду с другими «слами» он должен был стремиться «утвердити любовь межю Грекы и Русью».
Искусеви был не единственным посланником от имени знатной женщины в составе этой дипломатической миссии. В тексте договора 944 г. упомянуты «Каницар Перъславин» (Предслава — дочь племянника князя Игоря) и «Шигоберн — Сфандръ, жены Оулебле» (Сфандра, жена Оулеба, — дочь другого Игорева племянника). По мнению А. Н. Сахарова, это было не реальное дипломатическое представительство членов великокняжеского дома, а лишь «обозначение посольской иерархии» [27] ПСРЛ. Т. II. С. 35; см.: Сахаров А. И . Указ. соч. С. 237.
.
Осенью 945 г. князь Игорь, «возымя дань» у одного из подвластных Киеву племен — древлян, решил, что она невелика, и снова вернулся за данью «в Дерева». Древляне восстали и убили князя. На основании нормы древнерусского права, согласно которой вдова, если она не выходила вновь замуж, исполняла после смерти мужа его хозяйственные и социальные функции, княгиня Ольга стала полновластной правительницей земли Русской.
Обычай кровной мести, который в столь раннем средневековье был реальностью, заставил Ольгу покарать убийц мужа, но наказанию княгиня придала «государственно-ритуальный характер». Летописный вариант — легенда о мести Ольги — начинается рассказом о сватовстве к ней древлянского князя Мала («…муж твой [был] аки волк, въсхыщая и грабя, а наши князи добри суть… Иди за наш князь Мал!») [28] Рыбаков В. А . Киевская Русь… С. 360; ПВЛ. Ч. I. С. 40. В предложении молодой вдове стать женой убийцы ее мужа тогда не было ничего необычного. Тот, кому удавалось убить царя или главу рода, женившись на вдове убитого, становился преемником его власти (см.: Лихачев Д. С . Комментарии к «Повести временных лет» // ПВЛ. Ч. П. С. 297).
. Ольга ответила послам, что они могут принести сватов в ладьях к ее терему (передвижение посуху в ладьях имело у восточных славян двойной смысл: и оказание почести, и обряд похорон). Наутро доверчивые древляне позволили «понести ся в лодьи», а Ольга приказала их сбросить в яму и живыми закопать. Памятуя о мучительной смерти казненного древлянами мужа, княгиня коварно поинтересовалась у обреченных: «Добра ли вам честь?» Послы ей будто бы ответили: «Пуще ны Игоревы смерти» (греческий историк Лев Дьякон сообщал, что «Игорь привязан был к двум деревам и разорван на две части»). Второе посольство «мужей нарочитых» было сожжено, а вдова отправилась на землю древлян якобы для того, чтобы «створить трызну мужу своему». Здесь ее «отроки» напали на «упившихся» после тризны древлян и перебили их множество — «иссекоша их 5000», как утверждает летопись [29] ПСРЛ. Т. II. С. 45–46; История Льва Дьякона Калойского. Т. VI. СПб., 1820. Гл. 10. С. 66.
.
Читать дальше