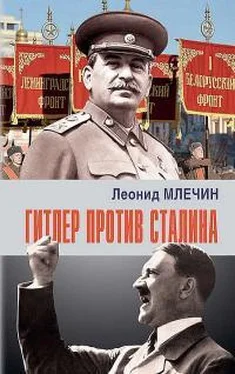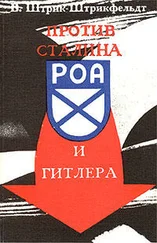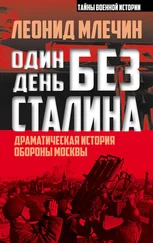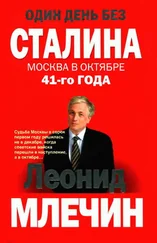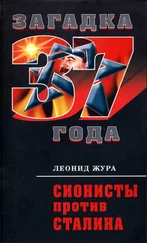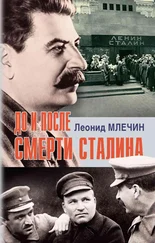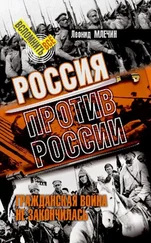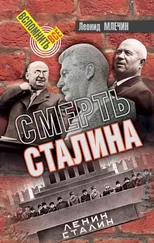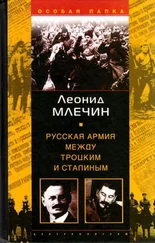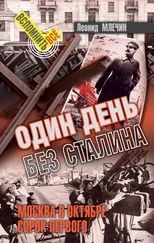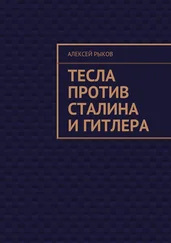Но «Битва за рабочие места» в Восточной Пруссии была, как сейчас сказали бы, чистой воды пиар–проектом. Сельскохозяйственная область нуждалась в примитивном и дешевом труде. Правая рука Геббельса в ведомстве пропаганды Вальтер Функ, журналист по профессии, выбрал Восточную Пруссию в качестве самого успешного примера действенной социальной политики нацистов.
День Гитлера начинался с доклада Ханса Ламмерса, начальника имперской канцелярии, и информационной сводки Вальтера Функа, который знакомил канцлера с утренними новостями.
«Вальтер Функ, — вспоминал Эрнст Ханфштенгль, ведавший в аппарате партии отношениями с иностранными журналистами, — был хорошим финансовым журналистом. Его слабостью была выпивка. Функ часто появлялся, страдая от чудовищного похмелья. Если на вопрос Гитлера о каких–то последних событиях он отвечал: «Мой фюрер, этот вопрос еще не созрел для обсуждения», это означало, что у него еще двоится в глазах и он не может даже прочитать собственную сводку».
Руководство партии поддержало инициативу Эриха Коха. Глава прусского правительства Герман Геринг нажал на федеральное министерство финансов, и самые большие деньги пошли в Восточную Пруссию, область, где было всего около двух процентов всех безработных страны.
Что же сделал гауляйтер Эрих Кох? Он согнал всех безработных в так называемые «товарищеские лагеря», где превратил всех, в том числе квалифицированных рабочих, в землекопов. Заодно уполномоченные Германского трудового фронта (созданного вместо распущенных профсоюзов) проводили с ними интенсивные политзанятия. Кох умудрился даже один из первых концлагерей для противников режима выдать за центр ликвидации безработицы…
Старания Коха были поставлены в пример другим гауляйтерам. Между партийными секретарями по всей стране началось соревнование. Но рапорты об успехах были дутыми. Сильная безработица была среди металлургов и служащих. Они не желали копать землю или идти на стройку. Поэтому безработица реально сократилась только в сельских районах, а не в промышленных центрах.
Деньги из бюджета текли на военные нужды и строительство необходимой для инфраструктуры армии. Автобаны занимают особое место в нацистской мифологии. Нацистское руководство никогда не рассматривало строительство дорог как метод ликвидации безработицы. Дороги строились как средство централизации страны и как коммуникации, нужные вооруженным силам.
В 1933 году только четверть немецких дорог имели твердое покрытие, необходимое для движения автомобильного транспорта. В 1934 году строительство автобанов было возложено на Фрица Тодта, инженера и старого члена партии.
Фриц Тодт учился в Высшем техническом училище в Мюнхене, получил степень доктора после Первой мировой. На фронте был военным летчиком. После войны руководил фирмой, занимавшейся дорожным строительством. В январе 1923 года вступил в партию, в штурмовые отряды и в Национально–социалистический боевой союз немецких архитекторов и инженеров.
В июле 1933 года Гитлер назначил его генеральным инспектором немецких дорог и поручил ему строительство автобанов. Так появилась военно–строительная «организация Тодта».
Германия боялась войны на два фронта, как это произошло в Первую мировую. Автобаны давали возможность перебрасывать войска с одного фронта на другой без промедления. Фриц Тодт представил план строительства шести тысяч километров новых дорог и попросил на это пять миллиардов марок. Обещал, что после прокладки запланированных им дорог триста тысяч солдат можно будет перебросить с фронта на фронт всего за две ночи.
И по сей день уверенно говорят, что Гитлер избавил страну от безработицы, начав строительство шоссейных дорог… В реальности гауляйтеры быстро убедились в том, что борьба за новые рабочие места мало интересует Гитлера. Он думал только о перевооружении. После декабря 1933 года вообще ни одной марки не было выделено на создание новых рабочих мест, хотя гауляйтеры, которые еще ничего не поняли, бомбардировали Берлин депешами, доказывая, как важно дать им денег для укрепления привлекательного образа новой власти.
Важно заметить, что в 1933 и 1934 годах в немецкой экономике, как и во всем мире, шел естественный процесс восстановления после длительного кризиса. Главным двигателем оживления экономики было не государство, а частные инвестиции, прежде всего в строительство. Вот почему быстро сокращалась безработица в черной металлургии и металлургической промышленности, производстве строительных материалов и выпуске текстиля. Но вот что странно. И через полгода после начала подъема в Германии не произошло ожидаемого роста потребления. Экономическое оживление должно было вызвать рост потребления. Почему это не произошло?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу