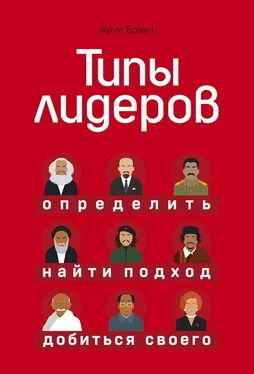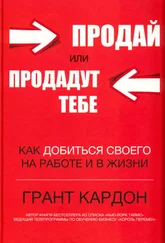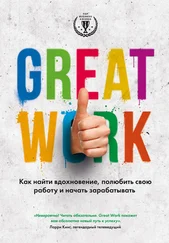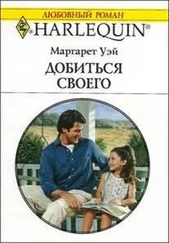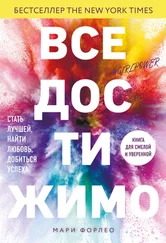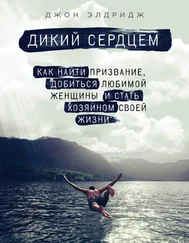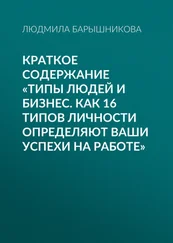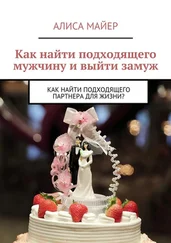Практически в каждой из стран региона заново поверили в возможность перемен, чему в немалой степени способствовали и численность тех, кто был готов к сопротивлению режиму, и ободряющий пример падения прочно устоявшихся авторитарных режимов Бен Али, Мубарака и Каддафи. В первых двух случаях лидеры и их окружение были свергнуты исключительно собственными силами граждан этих стран. Ливийцы тоже самостоятельно восстали против режима Каддафи и свергли его, но с помощью Военно-воздушных сил НАТО, которая была предоставлена по их просьбе и с санкции ООН. По замечанию бывшего редактора «Financial Times» по Ближнему Востоку Дэвида Гарднера, и европейские, и американские власти уже давно «породнились с кругом региональных диктаторов». Арабские революции стали для таких «реалистов» серьезным испытанием и вызвали непоследовательную реакцию. Так, например, ливийским повстанцам была предоставлена военная помощь, а Бахрейн лишь слегка пожурили за жестокое подавление безоружных протестов [749]. В подавляющем большинстве случаев первые уличные манифестации против режима носили совершенно мирный характер, и это помогало протестующим привлекать на свою сторону мировое общественное мнение. Когда режимы предсказуемо прибегали к репрессиям, протестующие отвечали на это насильственным сопротивлением разной степени ожесточенности. В частности, в Сирии это привело к трагической затяжной гражданской войне. Не менее авторитарным региональным монархиям все же удалось выжить со значительно меньшими проблемами, чем республиканским государствам. В определенной степени этому способствовала несколько бóльшая легитимность их вождей по сравнению с деспотами-самоназначенцами в республиках. Их выживанию (хотя и шаткому) помогли и некоторые осторожные либеральные компромиссы при значительно более весомых экономических уступках, снизивших накал недовольства. Реформы 2011 года в Иордании и Марокко проводились с конкретной целью упредить выдвижение радикальных требований или революционные волнения.
Принцип наследования власти выглядит более приемлемым для стран с правящей монархией, где он является традиционной и основополагающей частью существующего строя, чем для республик, где он рассматривается как очередное оскорбление со стороны узурпатора. То, что и Мубарак, и Каддафи, и Бен Али планировали передать власть одному из сыновей, лишь добавило народу решимости отстранить их. На рубеже веков передача власти по наследству уже состоялась в Сирии, и то, что за этим последовало, вряд ли может служить рекламой такого рода политической преемственности. Хотя поначалу Башар Асад казался существенно улучшенной версией своего жестокого отца Хафеза Асада, свирепость и неразборчивость в насильственных методах подавления мирных (хотя и недолго сохранявших такой характер) протестов против режима напоминали старшего из них. Как отмечал один из ведущих аналитиков ближневосточных революций, «не только диктаторы, но и их сыновья и наследники» стали «рассматриваться как зло и символизировать порочность режима» [750].
Как успешные, так и провальные арабские революции 2011 года фактически не имели лидеров. Там, где, как в Сирии, происходила продолжительная борьба при сохранении старым режимом своего неустойчивого положения, начинали играть более заметную роль организации, включая исламистские. Но в случаях, когда успех революции был едва ли не мгновенным, как в Тунисе и Египте, в массовое сопротивление включались самые широкие слои общества, что было полной неожиданностью для властей. Сам факт невозможности определения (и, соответственно, устранения) лидеров сбивал с толку оказавшиеся под угрозой режимы. Хотя в массовых выступлениях непропорционально важную роль сыграли образованная молодежь и представители среднего класса, самые успешные революции выигрывали от участия бедноты, которая обеспечивала их численно и «которая была настолько обездолена в прежнем мире, что ей нечего было терять в восстании против него» [751]. Естественно, даже уличные демонстрации имели своих неформальных лидеров, но эти люди обычно не принадлежали к каким-либо организациям вроде политических партий или профсоюзов и не являлись «харизматиками». Чаще это были интернет-активисты, нацеленные на распространение информации о демонстрациях и о жесткостях властей при их разгоне, агитируя, таким образом, своих знакомых и вовлекая в протесты еще более широкие круги общественности [752].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу