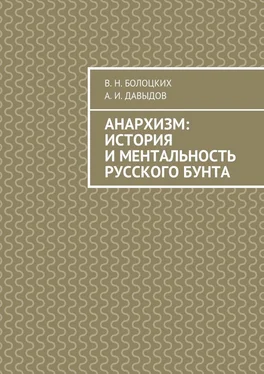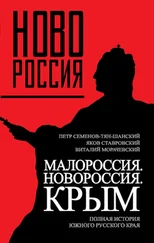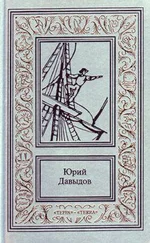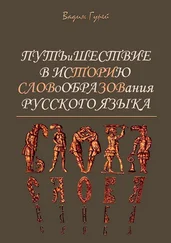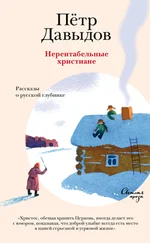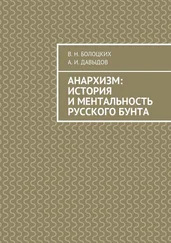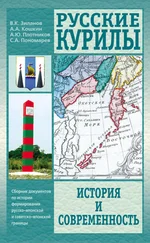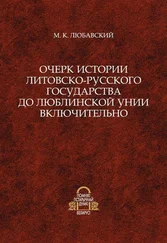А. К. Маликов, приговорённый в 1866 г. к ссылке за принадлежность к группе каракозовцев, а в 1870-е гг. примыкавший к кружку чайковцев, создал «религию богочеловечества». Путём распространения идей «богочеловечества» он надеялся преодолеть все антагонизмы, изжить классовую борьбу. М. Ф. Фроленко в воспоминаниях так передавал содержание этой проповеди: «Люди – боги… стоит только людям поверить в это (найти в себе бога, как выражались тогда), и с них спадёт кора всех порочных страстей и чувств, и они превратятся в непорочных агнцев, не способных ни на что злое, дурное. Мир быстро обновится, и на земле водворится земной рай… Тут не требовалось ни заговоров, ни скрытности, ни революции, никаких бунтов. Всё дело только в том, чтобы отказаться от налипших недостатков, почувствовать себя богочеловеком, уверовать в это». 67 67 Цит. по: Канев С. Н. Революция и анархизм. С. 176.
Идеи А. К. Маликова не получили тогда особого распространения, а сам он после неудачной попытки создать коммуну в Америке, разочаровался в своём учении, которое, как пишет С. Н. Канев, «рассеялось как дым от поповского кадила», а «его творец превратился в страстного приверженца православия». 68 68 Там же. С. 175—177.
С. Н. Канев не прав в том, что идеи «богочеловечества» рассеялись как дым. Дело даже не в том, что в начале XX в. часть революционеров, в том числе марксисты, будет высказывать подобные идеи. Дело в том, что любая коммунистическая теория, кто бы её не проповедовал – марксисты, анархисты, эсеры, христиане, мусульмане, атеисты – по сути, является «богочеловеческой». Потому что коммунизм невозможен без «непорочных агнцев», которые лишь силой своей веры в высокие идеалы избавились от порочных страстей и чувств, от жадности, лени, сластолюбия, зависти и т. п. И стать такими «непорочными агнцами» должны стать все, абсолютно вселюди.
В это же время в России появляются идеи коммунистического анархизма, способы достижения которого понимались по-разному. Например, граф Л. Н. Толстой высказывался за мирный переход к безгосударственному и безвластному обществу, без революционного насилия путём непротивления злу. 69 69 Там же. С. 178—189.
В 1880—1890-е гг. князь П. А. Кропоткин разрабатывает свою концепцию анархо-коммунизма или анархического коммунизма. Как и Бакунин, Кропоткин выступал за революционный путь достижения высшей цели, но без бунтарских кровавых крайностей. Представления князя-анархиста об анархическом обществе также существенно отличались от бакунинских.
П. А. Кропоткин – путь в революцию
Кропоткин принадлежал к старинному княжескому роду Рюриковичей. В отличие от Бакунина, который нигде и никогда систематически не учился, Кропоткин прошёл курс гимназии, закончил одним из первых учеников привилегированный Пажеский корпус и Петербургский университет. После окончания Пажеского корпуса Кропоткин несколько лет служил в Сибири, большей частью на Амуре. Он рано проявил склонность к научной работе и много занимался географическими исследованиями, был членом Русского географического общества и его ожидало блестящее будущее учёного.
Детские впечатления от общения с крепостными крестьянами, увлечение естественными науками оказали значительное влияние на формирование личности и взглядов будущего революционера-анархиста. Крепостные люди хорошо относились к рано потерявшим мать братьям Кропоткиным – Александру и Петру. Эта заботливость и участливость со стороны рабов породили ответное желание сделать им что-то хорошее и со временем Кропоткин встал на путь революционера. Он писал о проявлениях самостоятельности, «духе равенства» в крестьянах, которые беспрекословно повинуются помещику или полицейскому чиновнику, но «отнюдь не считают их высшими людьми», могут на равных говорить с барином о понятных для них вещах, об отсутствии в русском крестьянине подобострастия, характерного для мелких чиновников и лакеев.
В «Записках революционера» Кропоткин описывает случай, который оказал существенное воздействие на формирование его личности, отношение к крестьянам и формирование революционных воззрений. В 15 лет он впервые путешествовал самостоятельно из Калуги в Москву на почтовом тарантасе. Во время остановки в большом селе государственных крестьян, довольно зажиточном, молодой князь зашёл в харчевню, где у него завязался разговор с местными мужиками об урожае, о погоде, о сене. Кропоткин вспоминал: «Затем мне стали задавать различные вопросы. Крестьяне хотели знать всё о Петербурге, а в особенности о ходивших тогда слухах о близости воли. И на меня повеяло каким-то особенно тёплым чувством простоты, сердечности и сознания равенства – чувством, которое я всегда испытывал впоследствии среди крестьян. Ничего особенного не случилось в этот вечер, так что я даже себя спрашиваю, стоит ли упоминать о нём. А между тем тёплая тёмная ночь, спустившаяся на деревню, маленькая харчевня, тихая беседа крестьян, их пытливые расспросы о сотне предметов, лежащих вне круга их обычной жизни, – всё это сделало то, что с тех пор бедная белая харчевня стала для меня привлекательнее богатого, модного ресторана». 70 70 Кропоткин П. А. Записки революционера. С. 105—107.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу