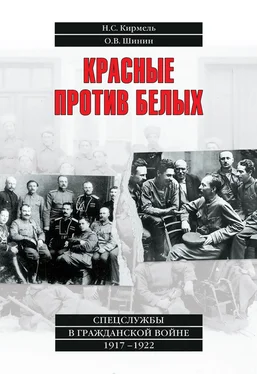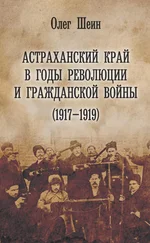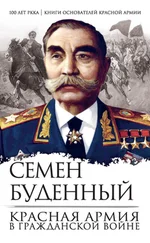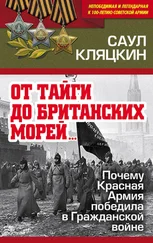В Омске хорошо понимали, что Г.М. Семенов, имевший под своим началом войска, по разным оценкам, от 8 до 20 тыс. казаков, и поддерживаемый японцами [1340], добровольно власть не отдаст и поэтому без боевых действий с его многочисленными отрядами не обойтись. Создавать очаг вооруженной напряженности в собственном тылу при нехватке войск колчаковские власти не хотели. Уже был случай, когда направленный в Забайкальскую область для усмирения Семенова по приказу Верховного правителя № 60 от 1 декабря 1918 г. особый отряд под командованием генерал-майора В.И. Волкова остановили японские войска, пригрозив применить оружие, если он попытается двинуться дальше [1341].
В поисках компромисса Верховный правитель решился на переговоры. После первой неудачной попытки 12 декабря 1918 г. в Читу прибыла Чрезвычайная комиссия, предложившая атаману принять командование одним из фронтовых корпусов. Но в это время Г.М. Семенов узнал о закулисных действиях членов комиссии, которые пытались найти союзников среди сил, оппозиционных атаману. На это предложение отозвался полковник Н. Комаровский, уведший 2-й казачий полк в Иркутск. В ответ атаман выслал комиссию из Читы. Незамедлительно последовало недвусмысленное заявление японского генерала Такиуки: «Атамана Семенова – этого истого самурая мы никому не выдадим и будем защищать его всеми силами» [1342].
Поскольку конфликт между Верховным правителем и атаманом Забайкальского казачьего войска ослаблял белый лагерь на Востоке России, колчаковским властям вместе с союзниками пришлось его улаживать. В итоге атаман признал власть А.В. Колчака. В свою очередь, Верховный правитель отменил свой приказ и назначил Г.М. Семенова командиром 6-го Восточно-Сибирского армейского корпуса.
Поддерживаемый японцами атаман Семенов вел активную внешнеполитическую деятельность. В начале февраля 1919 г. он прибыл в Даурию на конференцию, где шла речь о создании независимого монгольского государства, в состав которого он, помимо части Забайкалья, намеревался включить Аравию, Афганистан, Маньчжурию, Персию и Туркестан [1343]. Один из агентов контрразведки сумел добыть и переслать в Омск материалы этой конференции. Для противодействия планам атамана в Ургу был направлен поручик Б. Волков [1344].
Но грандиозный проект Семенова разрушился без участия колчаковских спецслужб. Сменились приоритеты в большой политике. Япония в своих захватнических планах сделала ставку на китайского генерал-инспектора Маньчжурии Чжан Цзолина, чьи войска готовились войти во Внутреннюю Монголию, и на китайских генералов из клуба «Аньфу», планировавших завоевать Халху [1345].
В целом же белогвардейское командование считало сибирское казачество надежной социальной опорой власти и даже возложило на него главную надежду при подготовке к проведению Тобольской наступательной операции в августе – сентябре 1919 г. Контрразведка своевременно предупредила командование, что при проведении мобилизации в ряде станиц казаками были проведены секретные круги, на которых серьезно обсуждался вопрос о переходе на сторону красных. Однако эти сведения Ставка всерьез не рассматривала, что стало ее роковой ошибкой: в самый неподходящий момент атаман П.П. Иванов-Ринов отказался исполнять директивы белого командования и участвовать со своим корпусом в наступлении [1346].
По данным контрразведывательных органов на начало октября 1919 г., воевавшие на фронте казаки настроены были воинственно и желали бороться с красными до победного конца. Остальные не знали, за что борются, поэтому относились к войне индифферентно [1347]. Однако, когда гибель белогвардейской государственности на востоке России стала очевидным фактом, казачьи формирования всеми силами начали уклоняться от службы [1348]. Подвергнутые разложению казачьи части во время боев в районе Иркутска оказались неспособны оказать сколь-нибудь серьезное сопротивление наступавшим частям Красной армии.
С сепаратизмом казачества вожди Белого движения столкнулись и на Юге России. Изначальная причина разногласий генерала А.И. Деникина и политических деятелей Кубани и Дона заключалась в том, что главком Добровольческой армии являлся бескомпромиссным сторонником единой и неделимой России, а казачьи правительства добивались автономии и федеративного устройства. «Помогать Добровольческой армии – значит готовить вновь поглощение Кубани Россией», – заявлял глава (кубанского) правительства Л. Быч [1349]. Разногласия привели к тому, что атаманы вступали в переговоры с интервентами и просили от них политической, финансовой и вооруженной поддержки: сначала у кайзеровских войск, затем у союзников. Даже угроза со стороны Советской России не смогла повлиять на амбиции политических деятелей. По сообщению агента деникинской контрразведки, на состоявшемся 18 октября 1918 г. в Новочеркасске совещании войскового атамана и правительства Донской области с представителями Южной, Народной и Астраханской армий рассматривался вопрос о союзе с Добровольческой армией. В ходе прений часть членов Донского правительства высказались против союза, опасаясь главенства А.И. Деникина. Было принято решение начать немедленно переговоры с гетманом П.П. Скоропадским [1350].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу