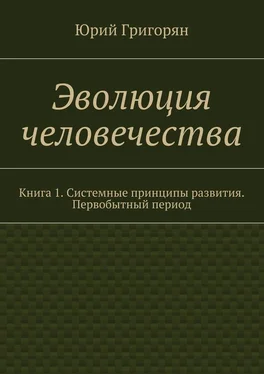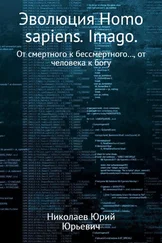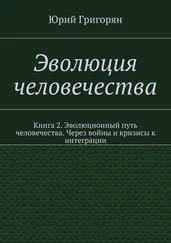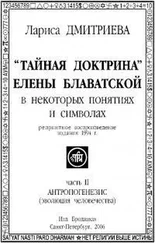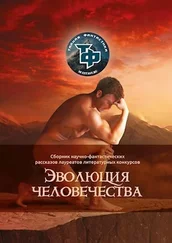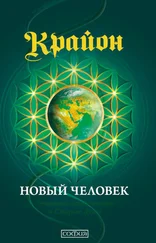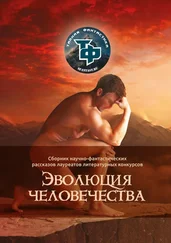Но с тем же основанием другие народы могут превозносить привычные для них ценности жизни. Есть ли параметр для их классификации? Так же, как когда-то Руссо, сегодня «зеленые» с подозрением относятся к значительным техническим нововведениям, резонно опасаясь вредных непредвиденных последствий. Не только успехи вооружений можно считать регрессом для развития человечества, но и многие научные и технические достижения могут оказаться злом для будущего людей. Вывод, который напрашивается, – это то, что все подобные рассуждения, выдвигающие те или иные ценности как важное качество жизни, при внимательном рассмотрении оказываются разноплановыми, зависящими от позиции авторов, и потому часто противоречивыми.
Обращусь еще к одному признаку соотношения центр-периферия, в качестве которого выдвигается суть неравного обмена из-за дешевизны сырья и труда в периферийном регионе.
Как могло возникнуть подобное, в чем-то грабительское, неравенство? Если низкий уровень местных издержек производства обусловлен специфическими природными благами, то подобное является довольно распространенным явлением между всеми, в том числе и развитыми странами и регионами. О неравенстве в этом случае не говорят. Если речь идет о разнице между номинальными ценами труда, которая отличается даже в европейских странах, но согласованной с реальной оплатой, соответствующей местным ценам, налогам и пр., то и этот фактор аналогичен фактору издержек производства. Если стоимость потребительской корзины низка, то номинально ниже будет и зарплата. Такие области, как правило, привлекают предпринимателей и быстро приводят в соответствие цену труда и товара на рынках разных регионов. Суть неравенства связана вовсе не с экономическими отношениями – они легко согласовываются во всем мире.
ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ПОЛИТИКОЙ И ЭКОНОМИКОЙ В ТЕОРИИ МИРОВОЙ СИСТЕМЫ
Известная эксплуатация одних стран другими была обязана прежде всего государственной политике по подчинению стран и регионов своему влиянию – тем самым присваиванию выгодного рынка сырья и труда. Колониальный или полуколониальный сверхприбыльный период был показателем влияния экономики на политику, когда политика способствовала монопольным производителям разворачивать свой бизнес и получать огромные прибыли в иных регионах. В этом плане есть резон признать правоту Ленина в определении империализма.
Однако можно привести немало случаев и обратного отношения, когда политика ограничивала экономические возможности роста или даже ее действия имели разрушительный эффект для хозяйства страны. Вообще говоря, проблема взаимоотношения политики и экономики является серьезным тестом для любой теории, тем более для теории мир-систем, с дефисом и без. Ее фундаментальная слабость в том, что теория вынужденно рассматривает как равноправные многие существенные стороны жизни общества. Тем самым она значительно уступает концепциям, в которых возводится иерархия отношений; а только такая может правильно отражать столь же иерархический исторический процесс. Так, у Маркса политика является следствием экономических отношений и потому теоретически строго зависит от нее, впрочем, и социокультура имеет вторичный характер. Отсюда легко получить объяснение и империализму, и олигархии, и колониализму. Они становятся попросту итогом политического действия по осуществлению капиталистической цели – неуемной сверхприбыли.
Правда, у обобщающего метода есть и свое преимущество. От него не ускользают многие, имеющие достаточную частоту проявления, события, которые, однако, могут не стыковаться с целостной концепцией. Любая теория идеальна, схематична. Для нее нет необходимости учитывать всевозможные частные события действительности. Но при этом может быть упущены и такие стороны, которые оказывают существенное влияние на ход событий и которые позже становятся фактами, опровергающими теории. Это тот самый фактор, который удобен и нужен для фальсификации.
Валлерстайн отмечает, например, широкий спектр взаимоотношений между политикой и экономикой. Например, что государство может быть защитой для огромных накоплений, но и основным хищником; что оно сдерживает противоборство организованных рабочих, но и легализует их борьбу (права профсоюзов); что в межгосударственной системе государство бьется за создание преимуществ для своих крупных производителей (монополий), но и антимонопольными законами старается ограничить их возможности получения сверхприбылей. Государство не должно вмешиваться в рыночную деятельность (laissez-faire), но так или иначе это делает через налоговое разнообразие, через протекционизм, акцизы и иные, имеющиеся у него механизмы. Если же иметь в виду то, что творило государство в течение 500 лет, то вариаций будет значительно больше. Не хватает только концепции, которая помогла бы понять, почему возникают те и/или другие действия.
Читать дальше