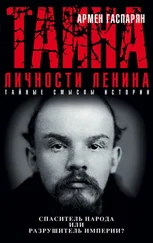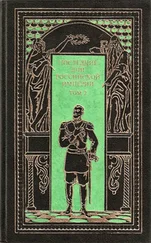Когда операторы четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС сообщили о небывалой катастрофе, их начальники и не думали что-то предпринимать. Чиновники в Чернобыле затверженно повторяли, что произошел “инцидент”, но ничего серьезного, реактор не разрушен. Небылица улетела в Москву. На следующий день обитатели Чернобыля, Припяти и близлежащих деревень продолжали жить обычной жизнью, накрытые радиоактивным облаком. Дети играли в футбол в радиоактивной пыли. На открытом воздухе справили 16 комсомольско-молодежных свадеб. В зараженной реке старики удили зараженную рыбу, а потом ее ели. Когда операторы доложили директору АЭС Виктору Брюханову, что уровень радиации на станции в миллионы раз превышает норму, тот ответил, что, очевидно, счетчик вышел из строя и его нужно выбросить. Больше суток заместитель председателя Совета министров СССР Борис Щербина отказывался приступить к массовой эвакуации. “Паника хуже радиации”, — заявил он. Насколько серьезна авария, мир узнал только после того, как скандинавские ученые сообщили о резком повышении радиационного фона. Даже эвакуировав собственные семьи, украинские партийные начальники настаивали на проведении первомайского парада. Киевские дети подымали в воздух тучи радиоактивной пыли, прославляя достижения социализма. После бессмысленных словопрений в политбюро и принятия мер по засекречиванию информации о катастрофе Горбачев наконец выступил по телевизору через 16 дней после аварии и значительную часть выступления посвятил обличению западной прессы.
“А реактор тем временем горел, — писал Григорий Медведев, инженер, одно время работавший на ЧАЭС. — Горел графит, изрыгая в небо миллионы кюри радиоактивности. Но это горел не просто реактор, прорвало давний скрытый нарыв нашей общественной жизни, нарыв самоуспокоенности и самообольщения, мздоимства и протекционизма, круговой поруки и местничества, смердил радиацией труп уходящей эпохи, эпохи лжи и гнойного расплавления истинных духовных ценностей”.
В 1988 году заместитель председателя Совета министров Щербина издал секретный указ, действовавший до 1991-го: советским врачам запрещалось указывать в качестве причины смерти радиактивное облучение. Сам Щербина, получивший большую дозу радиации, умер в 1990-м. О причине его смерти написали: “не установлена”.
Однажды утром в Киеве чиновник из “Спецатома”, организации, отвечавшей за ликвидацию последствий аварии, посадил меня в микроавтобус и повез на север, к Чернобыльской АЭС. Я и прежде бывал в городах, “застывших во времени”: в Гаване, где ветшали отели времен игорного рая и Батисты; в Рангуне, где не ходили часы, по улицам раскатывали чиненые-перечиненные английские машины, а в викторианском отеле сервировали почерневшее английское столовое серебро. Обычно это были места, где остатки колониального прошлого соединялись с нищетой при национальных правительствах. В Чернобыле было по-другому — это были руины советского строя, зримый и ужасный образ эпохи, которая началась в 1917 году и теперь заканчивалась. Мы проехали несколько КПП, пересели в “грязный”, то есть зараженный микроавтобус и направились в “зону”. В Припяти стояли брошенные многоквартирные дома — в том же плачевном состоянии, в каком находился весь жилой фонд в Советском Союзе. Здесь и жили рабочие и администрация АЭС. Вокруг разворачивался лунный пейзаж: опустевшие детские площадки, врастающие в землю машины, автобусы и железнодорожные вагоны, заброшенные поля. После аварии люди, которым срочно нужны были деньги, откапывали автомобили и продавали их радиоактивные запчасти, а то и просто перегоняли машины в Киев. Я встречался с пожилыми людьми, которых эвакуировали, но они вернулись в “зону”, чтобы доживать здесь свой век и умереть. Они никогда не верили ничему, что говорило государство, — и почему бы стали верить теперь? Они пили отравленный чай и ели отравленную картошку. В нескольких сотнях метров от их жилья стоял четвертый энергоблок, закованный в бетонный саркофаг. Инженеры все еще ломали голову над тем, как устранить перманентную опасность, исходящую от реактора. Бетон ведь не вечен.
Большинство людей, остававшихся в “зоне”, были ликвидаторами. В основном они работали “внутри” 15 дней, а затем разъезжались по домам, в Киев или другие города, и 15 дней восстанавливались. Это было правило. Но были и исключения — те, кто отдавал всего себя этой работе и почти не покидал “зону”, разве что на день-другой, чтобы повидаться с семьей. Директор “Спецатома” Юрий Соломенко и главный инженер Виктор Голубев почти все время проводили в “зоне” и собирались оставаться там, пока “саркофаг” — наименование четвертого реактора — не будет “чистым”. Когда я брал у них интервью, Голубев извинился и ушел раньше: у него была другая встреча. Едва за ним закрылась дверь, Соломенко сказал мне, что дни его друга сочтены. Голубев узнал об аварии, когда работал на строительстве реактора на Кубе. Он поехал добровольцем на тушение пожара. В эти первые дни он получил такую дозу радиации, что его кожа сгорела и сходила клочьями. Соломенко сказал, что тело его друга “в ужасном состоянии”. Но он отказывался покидать Чернобыль, пока дело не будет сделано.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу