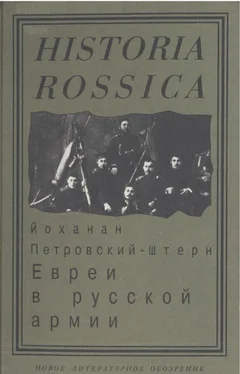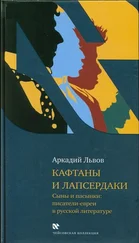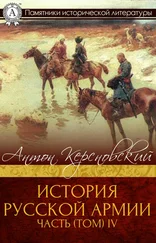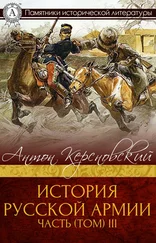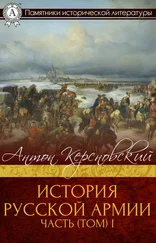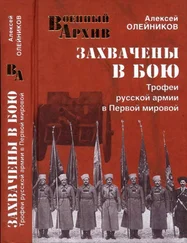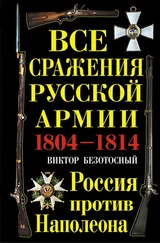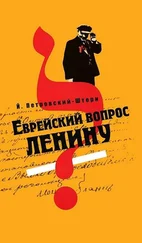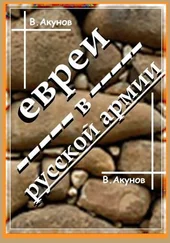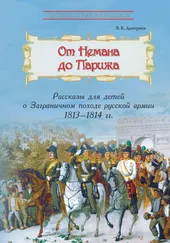в контексте русской военной и социокультурной, а не еврейской общинной истории;
как часть более общей проблемы обращения русской государственной бюрократии с этническими меньшинствами;
как составную часть исторического процесса, обладающего собственной логикой развития и не сводимого к дореформенному (до 1874 г.), послереформенному (после 1874 г.), николаевскому (1825–1855) или реакционному (1881–1917) периодам русской истории XIX — начала XX столетия;
на основе сравнительно-сопоставительного анализа, как часть более общей проблемы: что было общего и в чем различие между отношением русской военной бюрократии к евреям и к полякам;
что общего и в чем различие между евреями и православными в период учебы или боевых действий; что отличало евреев в армии от их единоверцев в черте оседлости — и что у них было общего друг с другом.
Встреча евреев с русской армией — слишком сложное событие, чтобы ограничиваться в его рассмотрении исключительно рамками социальной истории. Сложный и многоаспектный процесс аккультурации и огосударствления прежде замкнутой этнической группы требует целого ряда методологических подходов, включающих приемы исследования, принятые в микроистории {19} 19 19 О «микроистории» и ее методологических посылках см.: GaltungJ., Inayatullah S. Macrohistory and Microhistory: Perspectives on Individual, Social, and Civilizational Change. Westport, Conn.: Praeger, 1997.
, краеведении и региональной истории, квантитативной истории {20} 20 20 Выражение «квантитативная история» (как часть и подраздел социоэкономической истории) предложено Шаулем Штампфером в устной беседе с автором. По вопросам статистического анализа еврейской истории см.: Engelman U.Z. Sources of Jewish Statistics // The Jews: their history, culture, and religion / Ed. Louis Finkelstein. 3rd ed. Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1966. Vol. 2. P. 1510–1535; Kahan A. Essays in Jewish Social and Economic History / Ed. by Roger Weiss. Chicago; London: University of Chicago Press, 1986; Kuznetz S. Economic Structure and Life of the Jews // The Jews: their history, culture, and religion… Vol. 2. P. 1597–1666; Ruppin A. The Jews in the Modem World. London: McMillan, 1934; Stampfer Sh. Patterns of Internal Jewish Migration in the Russian Empire // Jews and Jewish Life in Russia and the Soviet Union / Ed. Y. Roi. Ilford: Fran Cass, 1995. P. 28–47; Idem. The Jewish Population in the Regions of Ukraine before, during and after the Khmielnicki Uprising (рукопись). Из новейших работ по «квантитативной» русской истории см.: Frank St. Crime, Cultural Conflict, and Justice in Rural Russia, 1856–1914. Berkley: University of California Press, 1999.
, историографии «частных случаев» ( case studies ), структуральной истории {21} 21 21 О структурной (структуральной) истории см.: Hoyd Ch. The Structures of History. Oxford and Cambridge: Beadiwell, 1993; Fox-Genovese E. Literary Criticism and the Politics of the New Historicism // The New Historicism / H.A. van Veeser. N.Y.: Routledge, 1989. P. 213–224.
. Мы также использовали классическую методику политической и интеллектуальной истории, особенно в пятой и шестой главах, хотя и в этом случае основное внимание уделялось изучению тех социальных последствий, которые оказывали на армию политические события или журналистские дебаты. Анализ коллективной памяти и национального самосознания, отразивших военную тему, потребовал «медленного» чтения литературных источников, сочетаемого с элементами семиотической методологии, «новой критики» и рецептивной эстетики. Каким бы «микроисторическим» ни был предпринятый подход к теме, мы старались не упустить из виду «макроисторический» контекст — как русский, так и еврейский. Полагаю, что настойчивое внимание к социокультурной проблематике — независимо от использованных подходов и схем — обеспечит методологическую цельность нашего исследования.
Книга построена по тематически-хронологическому принципу. В первых двух главах рассматривается вопрос об этнической самобытности еврейских солдат. В первой главе очерчен исторический контекст до и после распространения рекрутской повинности на евреев России. Во второй рассматривается проблема самоидентификации еврейских солдат, кризиса их этнического самосознания, анализируются формы и причины конфликта между общинным и военным самосознанием еврейского рекрута. Третья глава представляет собой попытку проанализировать вопрос о еврейских кантонистах с принципиально новых позиций. В ней уделяется особое внимание сравнению еврейских кантонистов с кантонистами из христиан, подробно анализируется ход миссионерской кампании в армии и трудности, с которыми столкнулись ее участники. В четвертой главе рассматриваются особенности прохождения евреями военной службы с точки зрения военной статистики и военного законодательства. В этой главе дана характеристика еврейских солдат с точки зрения набора в армию, распределения по родам оружия, воинской дисциплины, успехов по службе, преступности и медицинского состояния. В пятой главе рассказывается о реакции еврейских солдат на преобразования в русском обществе накануне и после первой русской революции. Здесь мы подробно остановимся на той роли, которую сыграли еврейские солдаты в распространении революционной пропаганды в армии, а также в работе военно-боевых комитетов трех главных революционных партий России — эсеров, социал-демократов и Бунда. В шестой главе ставится вопрос о зарождении русского политического антисемитизма в связи с распространением на евреев воинской повинности и обсуждением вопроса о равноправии евреев в армии. В ней исследуется «еврейская» политика Военного министерства в контексте интенсивной праворадикальной пропаганды в обществе и армии на рубеже XIX–XX вв. Седьмая глава рассказывает об отражении исследуемой темы в русской и русско-еврейской литературе. Образ еврейского солдата рассмотрен в ней как с точки зрения его литературно-художественных особенностей, так и с точки зрения его места в идеологической полемике вокруг еврейского равноправия.
Читать дальше