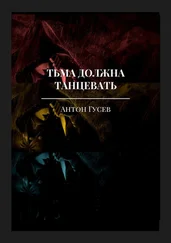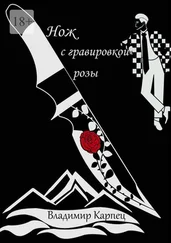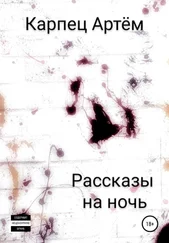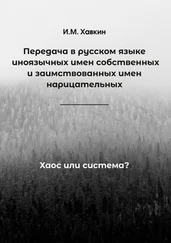«В этом смысле, — указывал Лев Александрович Тихомиров, — истинная монархия может быть только одна. Это именно и есть та монархия, в которой одно лицо получает значение верховной власти: не просто влиятельной силы, а власти верховной. Это же может случиться во вполне чистом виде только при одном условии: когда монарх, вне сомнения для нации и самого себя, является назначенным на государственное управление от Бога. Власть монарха возможна только при народном признании, добровольном и искреннем. Будучи связана с высочайшей силой нравственного содержания, наполняющей веру народа и составляющей его идеал, которым народ желал бы наполнить всю свою жизнь, — монархическая власть является представительницей не собственно народа, а той высшей силы, которая есть источник народного идеала […] Это составляет необходимое условие для того, чтобы Единоличная власть перестала быть делегированной от народа и могла стать делегированной от Бога, а потому совершенно независимой от человеческой воли и от каких-либо признаний. При этом единоличная власть становится верховною». Только такая монархия может считаться «истинной монархией», а не ее конституционной подменой, то есть властью, ориентированной вертикально и не подверженной никаким временным изменениям.
Строго говоря, монарх может быть только единожды дарован от Бога и един сам по себе как «образ одушевлен Самого Царя Небесного» (преп. Максим Грек). Однако, ввиду смертно-временного пребывания человечества в физическом, т.е. падшем, мире единственным возможным путем преодоления временности земной царской власти является династический принцип в его единственно возможном виде — от отца к сыну (так называемое «лествичное право», т.е. переход престола от старшего брата к младшему, не только глубоко неонтологично, но и опасно для государства — оно всегда приводило к гибели монархий, на нем основанных).
«Посредством династии, — писал Л.А.Тихомиров, — единоличный носитель верховной власти становится как бы безсмертным, вечно живущим с нацией. […] Государь является преемником всего ряда своим предшественников, он представляет весь дух верховной власти, тысячу лет управлявшей нацией, как сами подданные представляют не свою личную волю данного поколения, но весь дух своих предков, царям служивших. Духовное единство власти и народа получает тут величайшее подкрепление. Устраняя по возможности всякий элемент „избрания“, „желания“ со стороны народа и со стороны самого Государя, династическая идея делает личность Царя живым воплощением того идеала, которого верховенство нация поставила над собой. Государь одновременно и обладает всею властию этого идеала, и сам всецело ему подчинен».
Поэтому, если секулярно-демократическая теория права полагает в основу государственного права так называемое «конституционное право» (сейчас эти понятия вообще употребляют как синонимы), то православно-монархическая оптика высвечивает как ключевую отрасль права право династическое, которое одно только и может лежать в основе т.н. «правового государства», если таковое понятие вообще не лишено смысла. При этом правовые категории в данном случае являются лишь внешне видимым проявлением совершенно иных закономерностей. Иначе говоря, исходя из изложенного, совершенно ясно, что если не сам Царь (что могло бы быть только в условиях преодоления греха и его последствий — смерти и времени), то, по крайней мере, Царский Род может быть только един; он существует как видимо проявленный собственно при монархии и непроявленный, сокрытый после ее свержения или установления псевдомонархии, «монархии» узурпированной. Более того, он сокрыто, потенциально пребывает как некое невидимое семя или зерно и в не просвещенных светом Христовым землях, ожидая живительной росы, дабы взойти в известное Одному Богу время. Потому в своем роде сакральными являются даже и царственные династии дохристианские, а Апостол призывает «чтить царя» задолго до того, как преемство царское соединилось в симфонии с преемством апостольским. В некоторых культурах (характерно, что именно в культурах неправославных) сокрытый царский род уподобляется подземной реке Алфиос — непроявленно-священной: подобные мотивы мы встречаем у Ботичелли, Леонардо да Винчи, Николая Фламеля, Кольриджа…
Совет всея земли 1613 года, призвавший Михаила Феодоровича Романова на Русский престол, как мы полагаем, вряд ли мог руководствоваться какими-либо демократическими (даже в зачаточном виде) соображениями. Лев Тихомиров писал:
Читать дальше