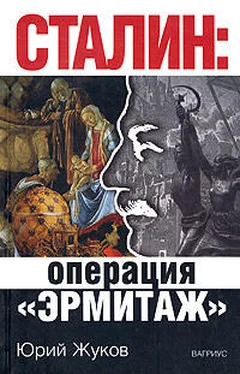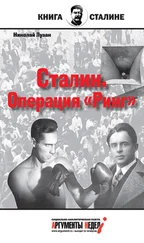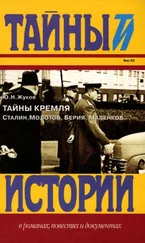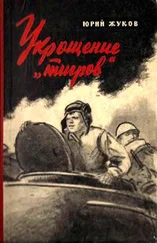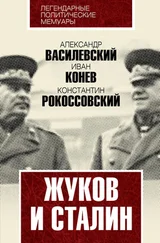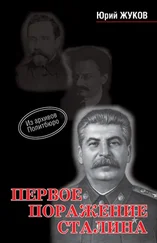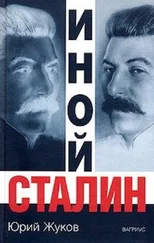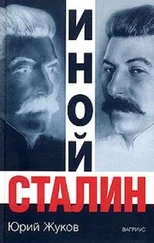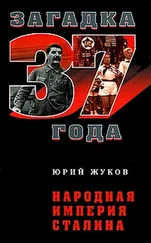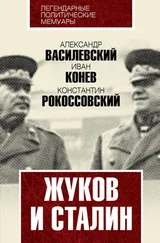Но об этом Луначарский старался не вспоминать – как и о том, что не кто иной, а именно он начал, подписывая приказы и распоряжения по наркомату, крушить сложившуюся, отлаженную, великолепно работавшую организацию охраны культурно-исторического наследия, столь мешавшую сотрудникам Наркомторга.
Еще в начале года Луначарский утвердил вместо Седовой-Троцкой руководителем Отдела музеев Л. Я. Вайнера, а теперь, в первых числах октября, подписал приказ о назначении начальником Главнауки М. Н. Лядова, старого большевика, делегата II и III съездов РСДРП, давнего соратника Пятакова по энергетическому ведомству и, кстати, одного из преемников Невского на посту ректора Свердловского (коммунистического) университета.
Уже 10 октября, через неделю после перехода в Наркомпрос, Лядов ознакомил своих новых подчиненных с оперативно разработанным планом полной реорганизации главка. Суть плана сводилась всего к четырем пунктам:
«1. Освобождение Главнауки от мелких функций, которые можно передать на места – учреждениям и органам народного образования. 2. Пересмотр сети учреждений, непосредственно подведомственных Главнауке в смысле максимального сокращения этой сети и передачи учреждений в ведение местных органов народного образования. 3. Пересмотр списка охраняемых памятников в смысле освобождения его от объектов, не подлежащих охране. 4. Освобождение руководства Главнауки от выполнения ряда функций чисто технического характера для предоставления ему возможности уделять достаточно времени и сил на разрешение основных проблем руководства, на связь с ведомствами и на представительство».
Вторая часть плана предусматривала ликвидацию большинства структур Главнауки, и прежде всего Музейного отдела. Лядов объяснял: «Нет возможности организовать достаточный учет и сохранение ценностей в наших многочисленных музеях». Свою мысль он развил и дополнил три месяца спустя, когда докладывал на коллегии Наркомпроса: «Ввиду резко обострившейся классовой борьбы, между прочим выразившейся в рецидиве религиозности известных слоев населения, особое внимание должно быть уделено так называемым историко-бытовым музеям (монастырям, церквям и т. д.). Там, где не хватает сил, умения и средств превратить их в антирелигиозные, они должны быть закрыты, а помещения должны быть использованы под культурные нужды» [88].
Разумеется, реорганизация Наркомпроса, сложившегося в своем виде в 1922 году, безусловно назрела. Ведь наркомату вскоре предстояло обеспечить переход ко всеобщему обязательному и бесплатному начальному образованию, перестроить систему подготовки инженеров и техников, в которых столь нуждались строившиеся и запланированные заводы и фабрики, железные дороги и комбинаты, электростанции. Но какое отношение к индустриализации имела скромная, незаметная деятельность картинных галерей и археологических отделов музеев, реставрационных мастерских, Лядов не объяснил. И все же реорганизацию он начал именно с Музейного отдела, который оказался основной помехой при выполнении решения Политбюро об экспорте художественных ценностей на 30 миллионов рублей!
Музейный отдел перестал существовать к началу 1929 года, превратившись в некий «музейный раздел» Главнауки, в свою очередь низведенной с уровня главка до отдела. Штаты «раздела», уже не имевшего персонального руководителя, были сокращены с восемнадцати до семи человек. Из них некий Объедков в одиночку представлял Комиссию по контролю за вывозом, Левинсон отвечал за охрану и реставрацию лучших образцов зодчества… Остальные курировали музеи по профилям, вернее, следили за политической правильностью их экспозиций. Художественными музеями занимался Вайнер, историко-культурными и историко-бытовыми – Григорьев. Всю же оперативную работу, связанную с сохранением произведений искусства, реликвий старины, подготовкой государственных списков памятников, передали Центральным государственным реставрационным мастерским, возглавляемым И. Э. Грабарем.
Таким образом, «музейный раздел» оказался полностью отстранен от работы по сбережению и использованию шедевров живописи, графики, скульптуры, прикладного искусства. Новые его задачи подчеркивал и вскоре утвержденный производственный план на 1929/30 год, который определял, что перед «разделом» отныне стоят задачи, связанные исключительно с недвижимыми памятниками:
«а) Проработка учетных сведений об архитектурных памятниках; установление твердого списка тех, которые имеют первоклассное значение, и сокращение списка с исключением из охраны менее ценных объектов… в) Разработка общих планов реставрационных работ и наблюдение за проведением реставрационных работ, г) Наблюдение за поддержанием и использованием памятников, д) Проведение ликвидации церковных памятников с возможным использованием их по другому назначению» [89].
Читать дальше