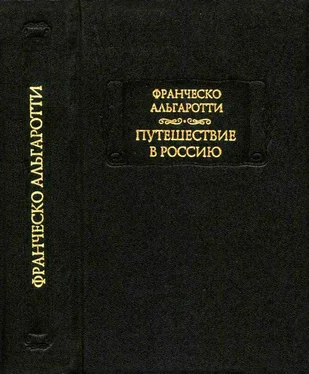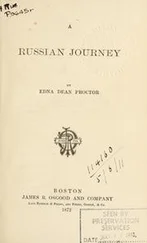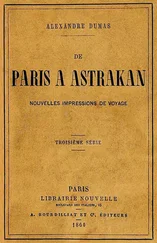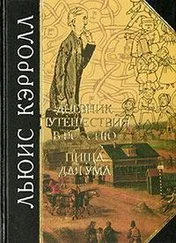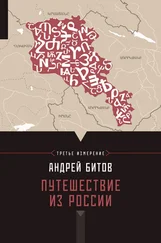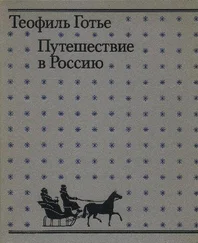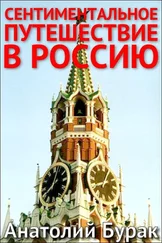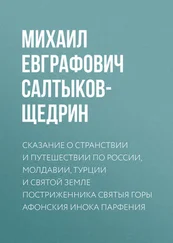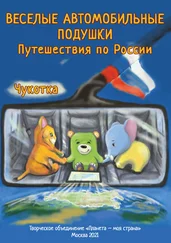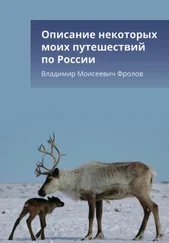Не могу, милорд, умолчать и еще об одной подробности, каковая хотя и согласуется с порядком вещей, а все же довольно необычна. Как Вы думаете, откуда доставляют то дерево, из которого в Петербурге строят корабли? Дубовые бревна добрых два лета проводят в пути, прежде чем оказаться здесь. Отборный, чисто срубленный лес прибывает сюда из бывшего Казанского ханства; [151] Государство со столицей в Казани, существовавшее в Среднем Поволжье с 1438 по 1552 г. и присоединенное к Московскому государству в результате Казанских походов 1545–1552 гг.
каждое бревно поднимают по Волге, потом по Тверце; оттуда оно проходит по каналу в Цну, из нее — в Мету, затем, пройдя через реку Волхов, оказывается в Ладожском канале, откуда, наконец, по Неве сплавляется до Петербурга. Тут, в Кронштадте, есть яхта, построенная в Казани; сюда ее доставили через эти самые реки, которые таким образом соединяют Каспийское море с Балтикой, [152] Имеется в виду Тверецкой канал, построенный в 1702–1708 гг. под руководством стольника князя М. П. Гагарина и связавший бассейны Волги и Волхова через реки Тверцу и Цну.
и это вам не чета Лангедокскому каналу, [153] Канал, построенный в 1681–1688 гг. по проекту инженера П. Рике и соединивший Средиземноморский бассейн (Лионский залив) с Атлантическим океаном (Бискайским заливом).
столь у нас знаменитому.
В прошлые времена сплавляемый лес пускали в дело сразу, как только он доходил до места. Теперь его помещают вылеживаться в особые большие сараи с множеством отверстий, похожие на наши клетки для кур, — это для свободного прохода воздуха. С наступлением зимы сараи накрывают большими полотнищами, чтобы защитить от непогоды, — примерно так в Италии накрывают цитрусовые саженцы.
Впрочем, довольно о галерах и прочих кораблях, Вам это, должно быть, наскучило. Но никогда не устану повторять, милорд, как сильно я Вас люблю и почитаю.
Письмо 4
30 июня 1739 г. С.-Петербург
Ему же.
Петербург, 30 июня 1739 г.
Находясь на севере, я списываюсь с Вами, милорд, так часто, как только могу, и, уж конечно, не дам отбыть этой почте, не сообщив последних своих новостей; впрочем, и Ваших известий я жду как можно скорее. Но в каком порядке рассказать вам об этом городе, об этом, я бы сказал, огромном окне, недавно распахнувшемся на севере, — окне, через которое Россия смотрит на Европу? [154] Образ «окна в Европу» использован А. С. Пушкиным в авторских примечаниях к «Медному всаднику» (1833).
Мы на днях прибыли в Петербург, проведя перед этим два дня в Кронштадте в гостях у адмирала Гордона. Корабль нам пришлось оставить в Кронштадте, у нашего судна осадка примерно в одиннадцать футов; будь в заливе глубины чуть побольше, мы могли бы подняться до Петергофа. А так мы прошли вверх по Неве в красивой, резной барке, которую нам предоставил адмирал. Семь месяцев в году Нева судоходна, а остальные пять по ней ездят на санях. У царя, среди прочих, были сани, сработанные наподобие шлюпки. На них, когда ветер дул вдоль по руслу реки, с востока или же с запада, он скользил под парусом туда и сюда, из Петербурга в Кронштадт и из Кронштадта в Петербург, [155] Имеется в виду буер — поставленное на полозья судно для езды под парусом по льду
по делам своего морского флота. Санями этими, или, если угодно, шлюпкою на полозьях, он управлял при помощи особого руля, похожего на окованную железом палку, которой рулят рамассами [156] Рамассы — сани, которые используют в горах для перевозки пассажиров.
в горах Монсени. [157] Горный массив на границе испанских провинций Барселона и Герона.
Так Петр имел удовольствие ходить под парусом даже и на суше. Но самое великое удовольствие в своей жизни испытал он, когда торжественно поднялся вверх по Неве, после того как побил в 1714 году при Гангуте шведскую эскадру и привел оттуда изрядную ее часть вместе с пленным шведским адмиралом. [158] Речь идет о сражении у мыса Гангут 27 июля 1714 г.: русский флот, состоявший из 99 парусно-гребных судов, одержал победу над шведским контр-адмиралом Н. Эреншёльдом, который был взят в плен.
Тут он увидел, что дело его жизни свершилось. Нация, несколькими годами раньше не имевшая на Балтике даже шлюпки, стала хозяйкою этого моря, а Петр Михайлов, еще недавно плотничавший на амстердамских верфях, [159] Петр ехал в составе Великого посольства (1697–1698) под именем Петра Михайлова. Восемь дней он проработал в Голландии на верфи Саардама и более полугода — в Амстердаме, овладевая ремеслом корабельного мастера и в качестве простого матроса приобретая навыки морского дела.
за такую победу по праву был произведен в вице-адмиралы русского флота — комедия, как кто-то сказал, весьма поучительная, которую надобно было бы представлять перед всеми земными царями. Вот теперь и мы проследовали по этому триумфальному пути, по священному руслу Невы: оно, впрочем, не украшено ни арками, ни храмами; совсем наоборот — от самого Кронштадта и до Петербурга окаймлено лесами, и леса эти состоят вовсе не из густолиственных каменных дубов [160] Каменный дуб, т. е. боровой, дубровный, растет на сухих песчаных местах, имеет толстую кору и очень твердую древесину.
или свежих лавров, а из деревьев самых неприглядных пород, какие только произрастают под солнцем. Это что-то вроде тополей, [161] Подразумевается, по-видимому, осины — деревья, родственные тополю.
но совсем не таких, в которые были обращены сестры Фаэтона [162] Согласно Овидию, Фаэтон, сын бога Гелиоса, взялся управлять солнечной колесницей своего отца и едва не сжег землю; за это он был поражен молнией Юпитера и упал в реку По. После того как сестры Фаэтона воздали ему погребальные почести и оплакали, Юпитер превратил их в тополя («Метаморфозы», II, 340–366).
и которые осеняют берега реки По. Напрасно напрягали мы слух, чтобы услышать мелодичное пение тех птиц, которыми царь когда-то пожелал населить
Читать дальше