Это было почти то же самое, как если бы его покойная мать вернулась к нему. Фанни просила о свидании, вспоминала воткинские годы, спрашивала про всех родных. Она помнила все, сохраняла его детские тетрадки. Он несколько дней не мог прийти в себя: как, неужели она жива, неужели он увидит ее, и оживут лучшие годы его жизни: брат Коленька, неизменный товарищ игр; уральские черные ночи страшных сказок; материнская рука на его вихрастом затылке, санный путь по берегу Камы. Детство… Он обещал ей в первую же поездку за границу навестить ее, но только через полгода, проездом из Базеля в Париж, заехал в Монбелиар.
Маленький городок со старой церковью и главной улицей, обсаженной деревьями, показался ему похожим на русский заштатный городок. В тихой улице ему указали на мещанского вида домик. Когда он вошел, к нему навстречу поднялась толстая старушка, лет семидесяти, с красным лицом. Он узнал ее сразу. «Пьер!» — сказала она тихо и заплакала. Заплакал и он. Она усадила его в кресло, расспросила про всех, даже про тех, кого он сам давным-давно забыл. Она вспомнила его мать, вместе с его детскими дневниками вынула несколько старых писем к ней Александры Андреевны. Он смотрел на нее, на ее, без единого седого волоса, маленькую, аккуратную прическу, на ее живые движения. И из жизни своей, из этой томительной, страшной и чем-то неполной симфонии, выводил памятью волнительную, пронзительную тему, начинавшуюся тогда, когда он был «стеклянным мальчиком», когда впервые для него зазвучала ария Церлины из моцартова «Дон Жуана», сыгранная старой оркестриной, в которой сипели и хрипели валы; когда заезжий польский офицер играл ему мазурки Шопена — еще до болезни спинного хребта, полученной по наследству от дедушки Ассиера, до туманной и роковой встречи, на заре юности, с таинственным, обольстительным проходимцем Пиччиоли.
Он просидел у нее весь день и назавтра опять пришел с утра. Обедать она отсылала его в гостиницу: она до сих пор жила уроками и достойным образом угостить его не могла. Он предложил ей денег, но она отказалась. В городе не было человека, который бы не был обязан ей грамотой.
Жизнь возвращала ему друга юности его — Аннет. Правда, ее он никогда не терял из виду, но в последнее время он все чаще писал ей — преимущественно шутливо; сквозь эту шутливость она угадывала все то, что он хотел сказать ей всерьез и не мог, и он был благодарен ей за ее понимание. Жизнь, отняв у него «лучшего друга», может быть, хотела вознаградить его за эту потерю, но награды эти казались ему, при всей их прелести, слишком ничтожными. Надежды Филаретовны он все равно забыть не мог.
И опять, как бывало: «работать, работать», звал он себя к настоящему и единственному делу. «Как сапожник шьет сапоги», — так он делал «Щелкунчика» и так писал «Иоланту». Для «Щелкунчика» Петипа разметил ему такты — оставалось только заполнить их:
«Nr. 1. Musique douce. 64 mesures.
Nr. 2. L'arbre s'eclaire. Musique petillante de 8 mes.
Nr. 3. L'entree des enfants. Musique bruyante. 24 mes.
Nr. 4. Le moment d'etonnement et d'admiration. Un tremolo de quelques mes.
Nr. 5. Marche de 64 mesures.
Nr. 6. Entree des incroyables. 16 m. rococo.
Nr. 7. Galop.
Nr. 8. L'entree de Drosselmeyer. Musique un peu effrayante et en meme temps comique. Un mouvement large de 16 a 24 mes.». [8] «№ 1. Тихая нежная музыка. 64 такта. № 2. Дерево освещается огнями. Искрящаяся музыка 8 тактов. № 3. Выход детей. Шумная музыка. 24 такта. № 4. Мгновение изумления и восхищения. Тремоло в несколько тактов. № 5. Марш в 64 такта. № 6. Выход в невероятных костюмах. 16 тактов рококо. № 7. Галоп. № 8. Выход Дроссельмайера. Немного жуткая и одновременно смешная музыка. Медленное движение от 16 до 24 тактов.» (франц.)
Он прилежно заполнял их музыкой. Когда он кончил оба заказа, он заставил себя сделать облегченное переложение для фортепиано «Щелкунчика», исправить клавираусцуг «Иоланты», а заодно облегчить и другие переложения своих сочинений: их делали когда-то Танеев, Клиндворт, но все они были слишком трудны для Боба, и, заваленный корректурами, тупея над правкой их, он просидел несколько месяцев в Клину.
Во сне ему снились нотные знаки, роковым образом делавшие не то, что им следует делать. Так часто бывало и раньше: когда он писал «Спящую красавицу», он видел себя каждую ночь танцором. Вставал он по-прежнему рано, и в жизни, наедине с самим собой, у него появилась какая-то спешка. Он всегда ходил скоро, ел скоро, темпы, дирижируя, брал скорее, чем следовало. Сейчас он спешил с работой, доводя себя до головных болей, до дрожи — все равно, была ли это инструментовка «Иоланты» или новая симфония, которую он задумал писать в зиму 1891–1892 гг.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу






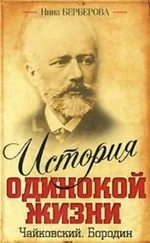
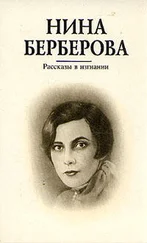
![Нина Берберова - Чайковский. История одинокой жизни [litres]](/books/432083/nina-berberova-chajkovskij-istoriya-odinokoj-zhizni-thumb.webp)
