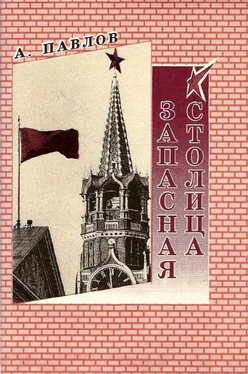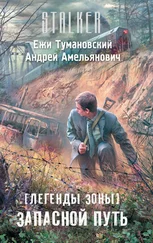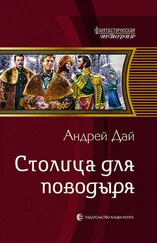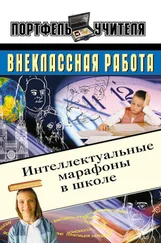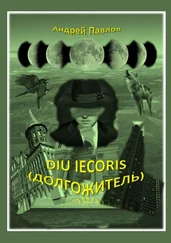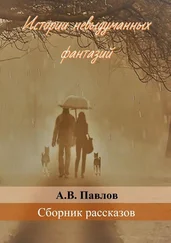Продавали в нем, в канун голодного для России 42-го года, совершенно невообразимое по тем временам: вина, ликеры, водку, икру красную и черную, шоколад, колбасы, кофе, белорыбицу и…
Все об этом почерпнуто мною из архива МИДа России.
Баловали иностранцев, можно сказать, – чрезмерно! В том числе и посла США мистера Стейнхардта, жаловавшегося на страдания.
Сегодня мы располагаем и совершенно свежими воспоминаниями о жизни дипломатов в Самаре в годы войны.
14 мая 1993 года Самару посетил посол Швеции в России Эрьян Бернер. Один из первых своих визитов он сделал в краеведческий музей имени П. Алабина, в здании которого в 1941-1943 годах размещалось посольство Швеции. Э. Бернер произвел на сотрудниц музея самое благоприятное впечатление, и, может быть, именно поэтому его попросили об очень важном для краеведения: не найдется ли в Швеции кто-то из дипломатов 41-43-го годов, кто помнит о Самаре тех лет, и хорошо, если бы…
Уже 26 июня 1993 года в музей поступил ответ на просьбу. Это воспоминания бывшего секретаря посольства Швеции в СССР Сверкера Острема:
«16 октября 1941 года сотрудников посольства в Москве привезли на Курский вокзал, а уже вечером отправились в путь. Через трое суток, переехав широкую реку и догадавшись – это Волга, дипломаты прибыли в Куйбышев. Начальник протокольного отдела НКИД СССР ходил вдоль состава, предлагая выгрузиться. Нас, семерых младших сотрудников, привезли в старинный особняк, пустой. В комнатах мы обнаружили только около двадцати железных кроватей, что напоминало недавнюю здесь, очевидно, больницу. Стали устраиваться, покупая мебель где придется. Позже, делясь своими впечатлениями с другими дипломатами, мы выяснили, что нашему посольству досталось самое лучшее здание из всех. Мы были приятно удивлены: вскоре открылся «Гастроном» для дипломатического корпуса с икрой и водками. Окна магазина были забелены мелом, чтобы простые жители не могли увидеть на полках настоящие яства для иностранцев. У входа всегда стояли двое солдат эн-ка-вэ-дэ. Мы скоро освоились. Особенное удовольствие нам доставляли оперные спектакли в Большом театре с прекрасной музыкой и голосами. А драматический театр, по незнанию русского языка, был, к сожалению, недоступен. Зимой катались на лыжах. Летом, загорая на берегу Волги, купались, играли в мяч. И даже совершили на лодке знаменитую «Жигулевскую кругосветку». Часто бывали в пригородных деревнях, интересуясь бытом крестьян…»
Летом 42-го мы, ребятишки, тоже купались в Волге. Только помнится мне другое: шли мимо нас пассажирские пароходы, раскрашенные в рыже-зеленые тона, с красными крестами на бортах. Будто призраки крались они поближе к берегу, насколько позволял фарватер. А уютных пригородных водных трамвайчиков, на которых мы катались «зайцами», к августу не стало видно: отправили их к Сталинграду на переправы войск, в верную гибель под бомбами.
И опять мне вспоминается тетя Тоня, соседка в коммунальной квартире, выбиравшая из мусорных ведер в коридоре картофельные очистки. Жила она всего-то в четырех с половиной кварталах от шведского посольства, где к столу подавали икру красную и черную. Тетя Тоня во всю свою жизнь, даже послевоенную, так и не попробовала, поди, икры, ни той, ни другой.
А дядя, Алексей Андреевич, в домашнем содоме, в холоде военных зим, тайком отдавая свои крупицы сахара детям, кроме работы еще и диссертацию писал. О необходимости блюсти чистоту реки Волги. И вскоре после войны он доктором медицинских наук стал.
Лето 42-го я еще жил впечатлениями чрезвычайного события, происшедшего со мной в осень минувшую. Не иначе как судьбой было определено: именно в годину Великой Отечественной я прочел «Войну и мир» Л. Толстого. Здесь есть, мне и нынче кажется, какая-то связь, тайная.
В школе я не отличался заметными успехами. Часть мальчишек из моего класса, те, кто выглядел посильнее, ушли в ремесленное училище авиационного завода. Я завидовал им: они надели добротные черные шинели с молоточками в петлицах. Их учили собирать военные самолеты. И самое главное и завидное – ребята, в отличие от меня, были всегда сыты. Почти сыты. Из дверей столовой, куда ремесленники ходили четким строем, пахло невыносимо вкусно. Однажды я заговорил с матерью о ремесленном училище – не пойти ли и мне? Она не стала и слушать. Я жил в сомнениях: то ли учить уроки, то ли нет? А вдруг завтра я все-таки уговорю мать? И зачем во время войны зубрить зоологию, например? А уроки рисования! Что проку, если я научусь в совершенстве рисовать спичечный коробок «Гигант» или пустой кувшин? Немцы захватили Можайск! Маршевые части шли теперь по шоссе и днем, не дожидаясь ночи.
Читать дальше