Хорошо налаженная система административной субординации сочеталась в древнекитайской империи с отточенной техникой контроля и самоконтроля бюрократии. Продвижение по службе определяли двумя критериями: «заслугами» и «накоплением трудов», т. е. стажем. В окраинных районах два дня службы считались за три [Loewe, 1968, c. 119].
Регулярно проводилась аттестация чиновников по обширному кругу показателей; ежегодно объявлялся лучший правитель области. О требованиях, предъявлявшихся к служилым людям в ханьскую эпоху, повествуют цзюйяньские таблички. Среди них встречаются краткие характеристики чиновника, в которых указаны его фамилия, имя, возраст, срок службы, удаленность места службы от его родины, степень заслуг (высокая, средняя, низкая) и приведена стандартная формула: «Обучен грамоте, умеет считать, хорошо управляет подчиненными и народом, сведущ в законах» [Оба, 1953, с. 21-22].
Механизм бюрократического правления находил свой raison d'etre в эксплуатации населения и его мобилизации в интересах государства. Местные служащие держали у себя и ежегодно обновляли реестры пахотной земли и дворов на своей территории. Экземпляры ханьских реестров не сохранились, но они, по-видимому, содержали сведения о размерах полей, качестве и состоянии пахотной земли, а во втором случае – имена, возраст, звание хозяина каждого двора вместе с перечнем членов его семьи. На основе земельного кадастра с владельцев участков взимался земельный налог. Формально он составлял в позднеханьское время 1/30 часть урожая. Кроме того, мужчины и женщины в возрасте от 16 до 56 лет платили подушную подать в размере 120 монет в год (с рабов и торговцев брали двойную таксу). На подростков 7-14 лет существовал налог «для кормления Сына Неба», равнявшийся 23 монетам в год. Мужчины податного возраста каждый год отбывали трудовую повинность, работая обычно на строительстве или в казенном производстве. Впрочем, от повинностей разрешалось откупаться деньгами или зерном.
Не вдаваясь в разбор всех аспектов социальной иерархии в ханьском Китае, отметим лишь влияние на нее имперской организации. Влияние это было немалым, ибо в свете неограниченной власти императора общественный, правовой и политический статусы сливались воедино. Можно даже сказать, что империя без остатка растворяла в себе общество: никто из ее подданных не находился в особом отношении к государству. Политическая мысль Китая не знала вопроса: что есть человек? Ее занимало лишь, что он значит для государства. Человек в китайской империи не имел «гражданского состояния»; за ним признавался только «талант» (цай), и он мог надеяться лишь на то, что его талант «используют» (юн). Подобным же образом, заметим, в китайской империи не существовало отчетливого понятия земельной собственности. Последняя рассматривалась скорее лишь как право исключительного пользования, и государственные мужи империи думали не о том, кто и в каком смысле является собственником земли, но как лучше использовать земельные ресурсы.
Стремление государства установить полный контроль над населением запечатлено в институте рангов знатности – одной из отличительных черт древнекитайской империи. По циньским и ханьским законам каждый «полноправный», т. е. зарегистрированный, мужчина империи мог рассчитывать на один из 20 таких рангов, определявших его положение на социальной лестнице 4. Критерием присвоения ранга являлись, конечно, заслуги перед государством, трактовавшиеся в самом широком смысле: чиновничья служба, воинская доблесть, взносы зерном или деньгами, примерное поведение и пр. В ханьскую эпоху пожалование всем подданным низших рангов знатности приобрело регулярный характер и превратилось в своеобразный знак монаршей милости. По сути дела, на все общество распространялась бюрократическая практика «наказания за проступки и награды за заслуги»: высшие 12 рангов, даровавшие освобождение от повинностей, были зарезервированы за чиновниками и недоступны простолюдинам; провинности карались лишением одного или нескольких рангов знатности.
На фоне чрезвычайно дробной формальной классификации подданных особенно заметна размытость социальных категорий там, где принято видеть основные водоразделы в обществе. Так, свободные простолюдины обозначались весьма невнятным термином «обыкновенные люди» (пин минь) или «поравненные люди» (ци минь). В своей верховной «беспристрастности» (чжоу) императорская власть действительно уравнивала всех подданных. С одной стороны, жизнь даже высших сановников была в руках императора, с другой стороны, позднеханьская династия одинаково карала за убийство раба и свободного человека [Хоу Хань шу, цз. 1б, с. 85]; даже рабы считались «добрым народом» в свете неограниченной власти императора [Уцуномия, 1955, с. 330; Оти, 1980, с. 28]. Сразу после освобождения рабы могли стать чиновниками, что в средневековом Китае уже не допускалось.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
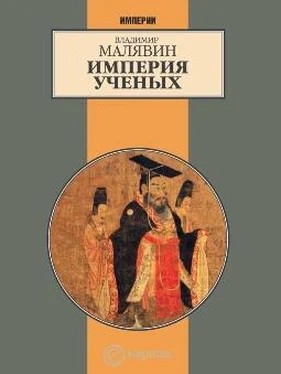







![Владимир Марков-Бабкин - Империя. Исправляя чистовик [СИ]](/books/434977/vladimir-markov-thumb.webp)



