Однако для дальнейшей эволюции политической мысли Китая гораздо большее значение имел другой, живший поколением позже конфуцианский ученый – Сюнь-цзы, чьи зрелые годы жизни приходятся на вторую четверть III в. до н. э. Сюнь-цзы играл видную роль в деятельности знаменитой философской академии Цзися, существовавшей в столице царства Ци, и, по-видимому, пользовался значительным авторитетом при дворе местного правителя. В отличие от своего оптимистически настроенного предшественника, Сюнь-цзы придавал первостепенное значение воспитательной роли общественной среды и, следовательно, в первую очередь государственных институтов и царской власти.
Этот резкий поворот в общественной позиции конфуцианства был в немалой степени обусловлен объективными историческими тенденциями. Политическая обстановка настоятельно требовала укрепления авторитарной власти правителя и создания сплоченного, энергичного и эффективного административного аппарата. Предыдущее поколение свободных философов не смогло предложить эффективной программы управления и дать китайским администраторам надежные критерии различения истины и лжи, пользы и вреда. Теперь жизнь заставляла наверстывать упущенное и притом руководствоваться прежде всего практическими интересами власти.
Полезность для государства и во все более возрастающей мере лично для государя, потребность в четких, всеобщих и, главное, строго исполняемых законах все больше определяли критерии истинности. Единство и централизация административной системы – а для некоторых и полная унификация общественного уклада – стали лозунгом дня. Этому идеалу воздается хвала даже в последней главе даосской книги «Чжуан-цзы», которую менее всего можно заподозрить в склонности к авторитарным порядкам. В одном из ее начальных пассажей говорится:
«Откуда нисходит духовная сила? Как является просветленность ума? Исходит сие от мудрецов, а получает завершение от правителей. Но и то и другое имеет своим истоком Единое...
Мудрость древних была воистину совершенной! Они стяжали осиянность духа, брали за образец Небо и Землю, пестовали всю тьму вещей, приводили к согласию Поднебесный мир, простирали милость на все сто родов. Они имели твердое знание основ и вникали во все частности жизни. Они охватывали разумом все шесть полюсов мироздания и все четыре времени года; не упускали из виду ни малого, ни великого, ни тонкого, ни грубого...
Нынче Поднебесный мир в великом смятении, мужи мудрые и достойные укрылись от взоров толпы, понятия о Пути и его свойствах друг другу противоречат... Каждый делает то, что ему заблагорассудится, и считает правым только себя...»
Сюнь-цзы тоже проповедует «великое единство» Поднебесного мира, но едва ли может претендовать на звание философа. Он предпочитает рассуждать с позиции здравого смысла и руководствуется в первую очередь прагматическими соображениями. Он часто апеллирует к авторитету традиции, государственных институтов и превыше всего царской власти, но никогда не поясняет, на чем именно основывается этот авторитет. В своей теории познания он проводит различие между знанием, доставляемым органами чувств, и так называемым удостоверением знания, которое осуществляет ум (обозначавшийся в китайской традиции термином «сердце»). Однако окончательное решение о наличии или отсутствии знания Сюнь-цзы оставляет за «людьми», т. е. общепринятым мнением. Вот характерный пассаж:
«Ум-сердце имеет удостоверяющее знание. Когда есть это удостоверяющее знание, тогда можно сообразно слуху определять звуки, а сообразно зрению определять образы. Однако удостоверение знания может осуществиться лишь в том случае, когда небесные чиновники (органы чувств человеческого тела. – В. М.) зарегистрируют их в соответствии с их видами. Когда органы чувств нечто воспринимают, но нет знания этого, ум-сердце удостоверяет знание, но нет речи о том, тогда люди непременно сочтут, что здесь нет знания. Вот что является причиной тождества и различия» [Сюнь-цзы, 1995, с. 451-452].
Как видим, Сюнь-цзы выводит процесс выявления тождества и различия из области понятийного анализа и рассматривает его в рамках естественного процесса восприятия и опознания данных органов чувств. Предполагается, что эти данные обязательно соответствуют действительности и притом совершенно понятны всем людям – два смелых постулата, требующих хотя бы минимального обоснования, каковое у самого умудренного конфуцианца совершенно отсутствует.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
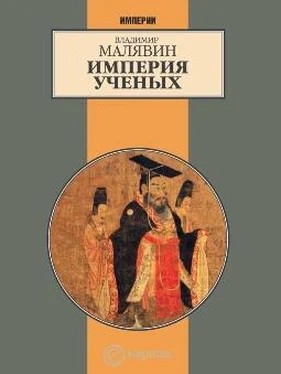







![Владимир Марков-Бабкин - Империя. Исправляя чистовик [СИ]](/books/434977/vladimir-markov-thumb.webp)



