Автономность аристократии перед лицом императорской власти обеспечивалась, как считают М. Танигава и Ё. Кавакацу, апелляцией к «деревенскому мнению» и «чаяниям народа». «Социальная основа аристократии Шести династий, – подчеркивает М. Танигава, – заключалась не в крупной земельной собственности, как было принято думать раньше, но... в утверждавшемся ее моральными усилиями мире всеобщности» [Танигава, 1976, с. 295]. В характерных для императорского Китая отсутствии прямой зависимости между социальным статусом и землевладением и примате общинного уклада над частнособственническим историки киотоской школы видят главное отличие средневековой Европы и ее феодальной знати от средневекового Китая и его аристократии, в первую очередь несшей миссию «культурного воспитания» и «политического руководства» [Кавати, 1970, с. 483].
«Общинная теория» М. Танигавы и его последователей вызывает возражения по нескольким пунктам.
Во-первых, нельзя согласиться с тезисом о самостоятельной роли общины в истории императорского Китая, ибо в послепервобытную эпоху способ включения общины в общественную систему и ее место в ней определялись не самой общиной. М. Танигава упускает из виду, что именно империя сформировала общину такой, какой она была в имперскую эпоху – эксплуатируемым придатком бюрократического аппарата и одновременно (в качестве реакции) формой защиты от нажима государства. Явно недооценивает он и значение классовых отношений как фундамента местного общества.
Во-вторых, главный атрибут аристократии – наследственный статус – не был связан с поддержкой общины и появился лишь после того, как «деревенское мнение» окончательно оторвалось от своей исторической основы.
История аристократии есть история превращения аморфного слоя местных магнатов в круг бюрократической элиты, до некоторой степени независимый от императорской власти. С конца III в. аристократы решительно противопоставляли себя провинциальным магнатам – «деревенщине» в их глазах. Не случайно ряд японских синологов рассматривает аристократию как «паразитический мандаринат», обязанный своими привилегиями государственной службе.
Т. Яно рисует формирование аристократии как процесс консолидации слоя чиновной знати за счет притока в бюрократию провинциальной элиты [Яно, 1976, с. 362]. Из различия между местными магнатами, опиравшимися на свои частные ресурсы, и аристократами, потерявшими связь с родными местами и стремившимися восполнить отсутствие прочной материальной базы идеальными факторами, он выводит основные черты общественной позиции чиновников-аристократов – от претензии на культурную исключительность до политического оппортунизма, стремления любой ценой удержаться на службе. В движении «чистой» критики Т. Яно видит лишь борьбу служилой знати за свои традиционные привилегии и отказывается признать за ней решающую роль в формировании института личных категорий после краха империи.
Концепция «паразитического мандарината», не объясняющая социальную подоплеку аристократического статуса, тоже страдает ограниченностью. Для доказательства своего главного тезиса Т. Яно ссылается на сведения о брачных союзах между знатными служилыми семьями из разных районов империи, привязанности их членов к столице, факты погребения чиновников вдали от родных мест. Тем не менее привлекаемые Т. Яно материалы не позволяют сделать окончательные выводы о характере позднеханьского общества, тем более что они зачастую допускают и другие толкования2.
Между тем основные тенденции социального развития и нормы общественного сознания господствующего класса в тот период плохо согласуются с точкой зрения Т. Яно. Консолидация горизонтальных страт внутри служилой элиты позднеханьской империи сопровождалась даже ростом социальной мобильности; нет оснований говорить о существовании в то время сословной неприязни чиновной знати к выходцам из низов. Главный водораздел в позднеханьском обществе, рожденный столкновением двух тенденций социального развития, проходил скорее по вертикали, пронизывая как центральную бюрократию, так и местную верхушку. Вот почему не только поборники «чистоты», но и их противники – евнухи жили с оглядкой на «общее мнение» родной округи.
Нетрудно заметить, что при всем несходстве взглядов М. Танигавы и Т. Яно между ними есть немало общего. Оба не находят прямой связи между аристократией и крупным землевладением и констатируют неспособность местных магнатов создать на развалинах древней империи новый общественно-политический строй. Оба отмечают историческую «беспочвенность» аристократии: Т. Яно рисует общество аристократии, отрезанное от своих провинциальных корней, а М. Танигава отзывается об аристократической культуре как о «культуре, оторванной от реальности» [Танигава, 1976, с. 295]. Расхождения между японскими синологами в оценке исторической природы аристократии обусловлены, в сущности, различиями в подходе к проблеме. Если одни рассматривают формирование аристократии ретроспективно, обращаясь к его историческим посылкам, то другие оценивают его, так сказать, в перспективе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
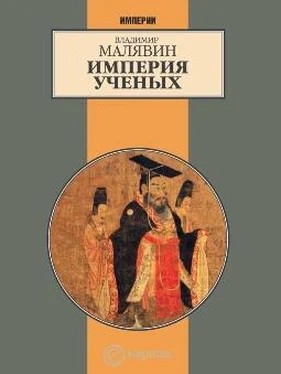







![Владимир Марков-Бабкин - Империя. Исправляя чистовик [СИ]](/books/434977/vladimir-markov-thumb.webp)



