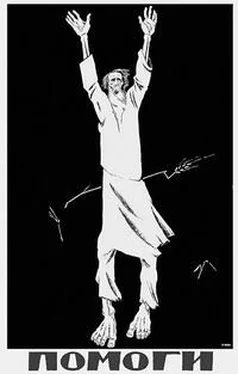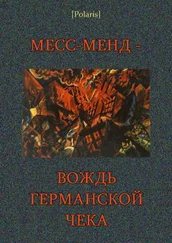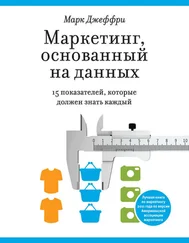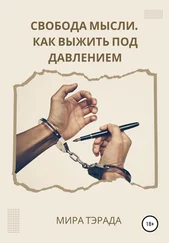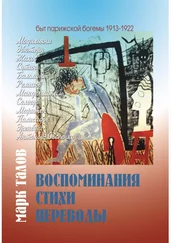Украинский советский ученый И. И. Слинько опубликовал архивные оценки валового урожая зерна в Украине в 1931 году — 14 миллионов тонн — что гораздо меньше официальных 18,3 миллиона. Он также пояснил, что погодные условия того лета сократили фактический объем собранного урожая еще на 30–40 %. [75] Слинько, Социалистическая перестройка, с.287. По оценку украинского Зернотреста и Трактороцентра — 845,4 миллиона пудов.
В статье 1958 года о голоде украинский эмигрант Всеволод Голубничий утверждает, что по данным официальной статистики, практически 30 % урожая зерновых 1931 года на Украине и «до 40 % урожая 1932 года потеряно при уборке». [76] Всеволод Голубничий, Причини голоду 1932–1933 года, Вперед (Мюнхен), № 10, 1958, с. 6–7; Английский перевод в Мета, № 2, 1979, с. 22–25, откуда и взята цитата.
Голубничий, правда, использовал туманное выражение «до» и не указал никаких источников, подтверждающих его слова. Несмотря на ряд статистических несоответствий, его статья позволяет в очередной раз предположить, что данные по 1932 году не отражают реального положения дел. [77] Голубничий доказывал, что после заготовительной кампании 1932–1933 года на душу сельского населения Украины приходилось только по 83 кг зерна. Если принять оценки Голубничего относительно существования 4,5 миллионов крестьянских хозяйств на Украине в начале 1933 года, и согласиться с его заявлением об уменьшении объема урожая с 14 миллионов тонн до 8.4 миллионов тонн (из которых 4,7 миллиона тонн были заготовлены государством), то остаться должно было 3,7 миллиона тонн. Это означает, что в среднем хозяйстве осталось бы 813 кг, или по 162 кг на каждого члена хозяйства, насчитывающего 5 человек.
Недавно советские ученые предоставили дополнительные доказательства в пользу того, что данные по урожаям 1930–1932 годов — оценки урожайности на корню. Например, В. П. Данилов утверждает, что «валовый урожай в 1932 году составил 699 миллионов центнеров, но часть его осталась на корню». Экономисты Григорий Ханин и Василий Селюнин писали, что метод оценки урожая на корню был введен во время первой пятилетки. Украинский ученый С. В. Кульчицкий четко дал понять, что чрезвычайные комиссии, направленные в ноябре 1932 года в Харьков, Ростов-на-Дону и Саратов (в момент апогея кризиса хлебозаготовок) «использовали данные так называемого биологического (на корню) определения урожайности зерновых». [78] В. П. Данилов, Коллективизация: как это было / Страницы истории КПСС: факты, проблемы, уроки, М., 1988, с. 341. Изначально опубликовано в «Правде», 16 сентября 1988 года. Выделение в цитате мое. Г. Ханин, В. Селюнин, Лукавая цифра, Новый мир, № 2, 1987, с. 189. Кульчицкий (До оцінки, с. 24), цитирует украинские государственные архивы
Его оценка средней урожайности 1932 года (7,2 центнера с гектара) в действительности ниже официального показателя (8,1 центнер). Такая разница говорит о том, что власть занижала прогнозы по урожаям так же, как и по планам хлебозаготовок, реагируя на плохие урожаи. Следовательно, официальные данные намного завышены.
Сказанное выше позволяет предположить, что официальная статистика сбора зерновых в 1932 году (а, вероятно, и в 1930–1931) базируется на оценках урожая, полученных до уборки, вероятно, на методах определения урожайности на корню, и фактический урожай поэтому оказывался завышенным. Ранее засекреченные архивные данные по сельскохозяйственной продукции, произведенной колхозами в 1932 году, убедительно доказывают, что реальные урожаи были гораздо меньше цифр официальной статистики. Эти данные основаны на суммарных годовых отчетах колхозов. [79] См. А. И. Ежов, Государственная статистика, ее развитие и организация, в: История советской государственной статистики, М. 1960, с. 62.
Поскольку данные в этих отчетах резко контрастируют с опубликованной официальной статистикой, необходимо прояснить их источник и его точность.
По стандартному колхозному уставу образца 1 марта 1930 года каждый колхоз был обязан подготовить годовой отчет, но выполняли это требование только единицы. В 1930 году только 33 % из 80 000 колхозов представили годовые отчеты, в 1931 году — всего 26,5 % из 230 000 колхозов, в 1932 году — менее 40 % от того же числа коллективных хозяйств. Частичное изменение административных границ регионов в 1932 году показывает, что колхозы, включенные в данную статистику, как правило, обслуживались машинно-тракторными станциями (МТС), обязанными проверять и обобщать отчеты колхозов в зоне своей деятельности (помимо системы МТС, отчеты от колхозов принимали и районные земельные управления).
Читать дальше