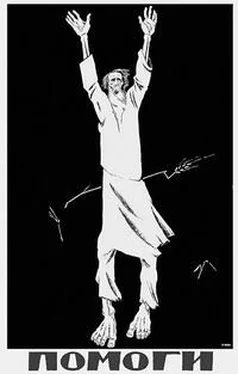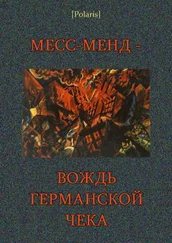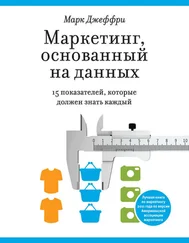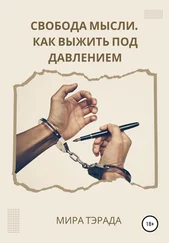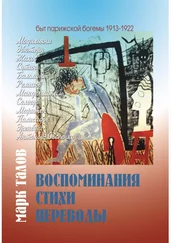В-третьих, в вопросах поставки продовольствия в 1928–1929 гг. Украина вовсе не выполняла роль сырьевой колонии для России, как утверждал в свое время Волобуев. Как уже отмечалось, во время этого кризиса и голода Украина получила больше продовольствия, чем вывезла в другие республики. Несмотря на то что этот единичный пример неспособен полностью опровергнуть аргументы Волобуева, он вполне показателен. В данном случае советские власти пошли на существенные уступки Украине, отреагировав на, несомненно, природный катаклизм, и передали из России в Украину необходимые ресурсы для оказания продовольственной помощи и восстановления сельского хозяйства.
Во многих работах, посвященных советскому режиму и крестьянству, упор делается на карательном и эксплуататорском характере политики правительства и воплощении ее в жизнь чиновниками. Авторы этих работ утверждают, что подобная практика укоренилась во времена гражданской войны, пошла на убыль во времена нэпа, но затем возродилась во время зернового кризиса и стала единственным вариантом отношений между крестьянами и государством — базовым элементом советского тоталитаризма, фундаментально отличающимся от «нормального» государства.
Представленные в данной работе свидетельства открывают перед читателем другую грань советского режима — обеспокоенность необходимостью смягчить страдания (а вовсе не создавать их), особенно в период зернового кризиса. Это правда, что ведомства по оказанию помощи в 1928–1929 гг. действительно пытались ограничить размеры помощи беднейшему крестьянству, кормящим матерям и новорожденным. С одной стороны, это выглядит как жестокость, но некоторые западные организации по оказанию помощи во время голода 1921–1923 гг. использовали этот же принцип. Например, менониты, оказывавшие помощь в Украине, отказывались помогать тем, у кого были хоть какие-нибудь активы, к примеру лошадь. Такая политика стала отражением существовавшего дефицита продуктовых запасов, который испытывали упомянутые учреждения, и подобная ситуация была характерна для страны в целом, в оба периода голода.
Сегодня правительства используют различные методики «проверок материального положения» — то, что в СССР называли «сальдо», — до того как обеспечить граждан доступом к материальной помощи и прочим социальным благам для бедных. Используемые критерии — сопоставление доходов и активов с утвержденными статистическими нормами типа «черта бедности» — очень похожи на стандарты, использованные Урядкомом в процессе принятия решения о том, имеет ли право конкретный регион на получение помощи.
Учреждения, задействованные в программе помощи в 1928–1929 гг., функционировали как обычные бюрократические аппараты в «нормальных» государствах и в остальных вопросах. Существовали определенные конфликты целей и интересов. Эти организации проявляли бюрократическую неповоротливость, но подобные примеры можно встретить в любой стране, в том числе и в США (как в частном, так и в государственном секторе). Несмотря на эти трудности, упомянутые учреждения объединяла общая задача оказания помощи, и им удалось реализовать существенную часть стоявших перед ними задач. Вполне очевидно, что их усилия спасли множество жизней. В этом контексте «экстраординарные меры», предпринятые режимом во время зернового кризиса, приобретают совершенно иной смысл: они приводили к дефициту продуктов в некоторых регионах для некоторых категорий крестьян, но тем не менее существенно облегчили бедственное положение действительно голодающих жителей большей части Украины (не говоря уже об остальных районах страны).
Естественно, результаты этих усилий, в том числе и экстраординарных мер, принесли благо по сравнению с тем, что могло бы случиться, если бы правительство ничего не предпринимало, просто полагаясь на рынок. В таком случае дело обстояло бы так, как это было во времена голода в Индии, когда миллионы людей погибли от голода и сопутствующих ему эпидемий. В некоторых местах, например в 1943 г. в Бенгалии, люди гибли от голода прямо перед витринами магазинов, наполненных деликатесами, которые они не могли себе позволить. А британские колониальные власти в это время утверждали, ссылаясь на классические законы политэкономии, что рынок урегулирует все проблемы без их вмешательства. Как уже отмечалось, многие группы жителей Украины и прочих регионов Советского Союза во время зернового кризиса столкнулись с такой же ситуацией, когда рыночные цены на продукты вырвались из-под контроля.
Читать дальше