Что же касается ввода советских войск в прибалтийские республики в октябре 1939 г. (т. е. еще до начала боевых действий в Финляндии) и официального присоединения их к СССР в августе 1940 г., то ни то ни другое не вызвало фактически никакого сопротивления. Скорее наоборот.
17 июля 1940 г. именно латышские военные отправились к границе с СССР, чтобы встретить прибывающие в Латвию части Красной Армии для их сопровождения до самой Риги. Многочисленные демонстрации прибалтов приветствовали наши войска цветами.
Очень многим все казалось тогда в Риге «счастливым сном». Английский посол, наблюдавший [106] за событиями из окна своей резиденции, послал в Лондон донесение, сообщая о том, что «поражен и удивлен» невероятной массовостью демонстрации и «несомненной искренностью» ее участников. Всего мимо посольства прошли не менее 70, но скорее всего около 80 тысяч человек. (Все население Риги составляло в то время 350 тысяч.)
Июль 1940 г. На выборах в Прибалтике коммунисты получили: Литва – 99,2 %, Латвия – 97,8 %, Эстония – 92,8 %.
Дело в том, что в 1940 году Прибалтийские республики умирали от экономического коллапса. Тогда было совсем другое время. Это в 1990 г., когда уровень жизни в них стал в 1,6-1,9 раза выше, чем в РСФСР, стало возможным кричать об «оккупации».
Действительно, после того как крестьянин из среднеазиатской республики, вырастив сырье, и русский рабочий, переработавший его, отдавали продукцию, которую оставалось красиво упаковать и продать, ставшему (благодаря Сталину) «высокотехнологичным» прибалту стало можно говорить о том, что «эти азиаты» (получавшие почти в пять раз меньше) не умеют работать.
Наглядный пример: узбекский колхозник за гроши собирал хлопок, ивановская ткачиха за гроши его перерабатывала в материю, а из нее прибалтийские модельеры делали готовые изделия и заявляли, что «умеют работать не в пример этим узбекам и русским».
* * *
До революции в Российской Империи ходила поговорка, отражавшая «благосостояние» прибалтийских «европейцев»: «У него, как у латыша, – х… да душа». Если учесть, что слово «пролетарий» означает [107] буквально человека, не имеющего ничего, кроме «орудия собственного воспроизводства», то вышеприведенная пословица очень точно определяет самый «пролетаризированный» народ Российской империи, с таким рвением вставший «на стражу завоеваний пролетариата». Недаром белогвардейцы мрачно шутили, что и мировая революция, и «власть в Совдепии держатся на латышских стрелках, жидовских мозгах и русских дураках».
Латышские формирования как нельзя лучше подходили для карательных операций. Вылезшие из своей Прибалтики, нищие, отсталые и забитые, которых до революции даже не брали в лакеи за грубость – латыши были идеальными «борцами за счастье всего трудового человечества». (Впрочем, не все прибалты были такими, как латыши. Эстонок, например, ценили как домашнюю прислугу в случае, если не хватало денег для найма «настоящей» немецкой горничной. Эстонские служанки были довольно чистоплотны и не совали нос в дела хозяев.) [108]
По словам американского советолога М. Бернштама, в советской исторической литературе не скрывается тот факт, что, когда мобилизованные формирования Красной Армии были малочисленны, неорганизованны и необучены, именно ударные отряды интернационалистов и, в частности, полки и бригады Латышской стрелковой дивизии были основной военной силой в основных операциях – в подавлении народных восстаний (именно интернационалисты применили артиллерийский обстрел химическими снарядами при подавлении восстаний в Ярославле, Ижевске и Воткинске).
О размахе народной борьбы против большевистского режима свидетельствуют данные Наркомата внутренних дел: с июля по декабрь 1918 г. в 16 губерниях европейской части России произошло 129 восстаний, в том числе в июле – 13, в августе – 29, в сентябре – 17. А за весь 1918 год «только в 20 губерниях Центральной России вспыхнуло 245 крупных антисоветских мятежей». [109]
Интернациональные бригады состояли из бывших военнопленных Центральных держав, а также белочехов, поляков, финнов, китайцев, корейцев, персов и других. Всего они насчитывали 74 000 осенью 1918-го и 268 000 – летом 1920 года (Интернационалисты. Трудящиеся зарубежных стран – участники борьбы за власть Советов. М., 1967, с. 577). Из них Латышская дивизия насчитывала соответственно 24 000 и 18 000 человек (Латышские стрелки в борьбе за Советскую власть в 1917-1920 годах. Воспоминания и документы. Рига, 1962). Красная Армия в это же время имела 387 500 – в 1918-м и 3 538 000 – в 1920 году (Директивы Главного командования Красной Армии. М., 1969, с. 130-131).
Читать дальше
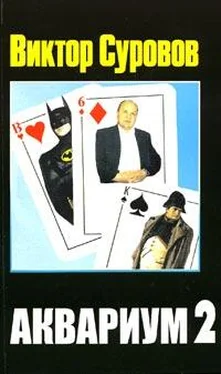


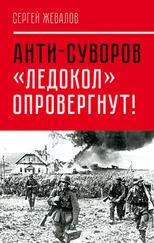

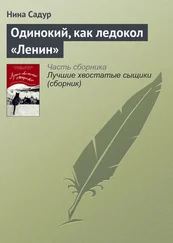
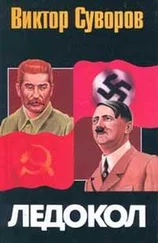

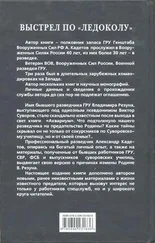
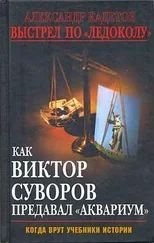
![Петр Мультатули - «Ледокол» для Наполеона [Лживый миф о «превентивной войне»]](/books/427799/petr-multatuli-ledokol-dlya-napoleona-lzhivyj-mi-thumb.webp)

