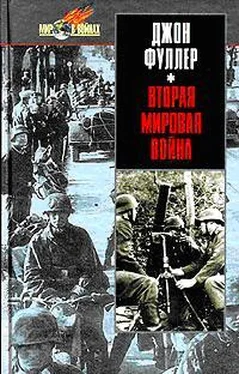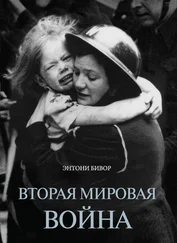Когда я оцениваю кампании, подробности которых достаточно выяснены, что дает возможность подвергнуть их критическому рассмотрению, то прекрасно понимаю, как легко быть умным теперь. Однако лучше быть таким после совершившегося, чем никогда. Если бы историки н другие деятели более критически оценивали факты со времени 1919 г., мы бы не оказались настолько психологически неподготовленными в 1939 г. В оправдание критики, содержащейся в этой книге, я хочу обратить внимание читателя, если он возьмет на себя труд ознакомиться с тем, что я написал в годы войны, в том числе и с моими другими книгами, что большая часть моих критических замечаний была высказана до описываемых событии, во время них или сразу после их окончания. Я, например, всегда придерживался мнения, что война является крайним средством и что воевать следует только тогда, когда поставлена здравая политическая цель. Цель войны заключается не в убийстве людей и разрушении, а в том, чтобы вразумить противника. Стратегические бомбардировки, начатые по инициативе Черчилля, являлись ошибкой не только с моральной точки зрения, но н не оправдывались военными соображениями, а политически означали самоубийство. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на положение в Центральной Европе сегодня.
Идеологические войны бессмысленны, и не потому, что идеи неуязвимы для пуль, а потому, и это всегда так было, что чем справедливее война, тем ужаснее ее результаты. Бомбардировки на уничтожение, к которым прибегали многие генералы, были не только жестокими, но и не оправдывали себя. Искусство ведения войны требует смелости и ума, а не только превосходства в технике и численности войск. В силу хотя бы только географического положения Британии наша стратегия основывалась на военно—морских, а не на наземных силах. С 1914 г. Соединенное Королевство пыталось играть роль континентальной державы и неизменно попадало в глупое положение. И, наконец, следует сказать, что, принимая во внимание все эти обстоятельства и независимо от того, как ведет себя ваш противник, выгоднее вести войну как подобает джентльмену, а не как мужику, ибо мужицкая война и закончится мужицким миром, который таит в себе опасность новой войны. Так поступать, по—моему, глупо.
Хочется сказать несколько слов еще об одном, а именно о численности армий и потерях. Обычно противники стремятся преуменьшить свои силы и преувеличить силы противника, потому что в этом случае победы выглядят более блестящими, а поражения — менее тяжкими. Поэтому я не могу поручиться за точность данных о численности вооруженных сил, приводимых в книге. Почти все официальные данные о потерях просто—напросто «состряпаны». Например, как быть в таком случае? В августе 1940 г. немцы сообщили, что они сбили 143 британских самолета, а на следующий день — 65, потеряв при этом соответственно 32 и 15. В эти же дни англичане сообщили, что они сбили 169 и 71 германский самолет, потеряв соответственно 34 и 18. Чтобы быть беспристрастным, следует сказать, что обе стороны были посредственными математиками. Это видно из таблицы на стр. 27 о потерях германской авиации в 1940 г.
Сообщения о потерях в сухопутных боях также противоречивы; зачастую сообщаются невероятные цифры. Однако есть хорошее правило, которое помогает разобраться в этом. Согласно «Статистическому сборнику британской армии за 1914–1920 гг. «потери в войну 1914–1918 гг. распределялись следующим образом: убитые и умершие — 19,94 %, раненые — 66,29 %, пропавшие без вести и пленные 13,77 %. На одного убитого приходилось 3,3 раненых и 0,7 пропавших без вести. Таким образом, соотношение выглядит как 1:3:1. Следовательно, если в сообщении указывается, что было убито 10 тыс., то общие потерн достигают примерно 50 тыс. Поскольку в коротком сражении максимальные потери могут составить до 20 % от численности войск, принимавших непосредственное участие в боях, значит, всего в войсках, понесших указанные потери, должно быть 250 тыс. человек. Но так как в настоящее время на одного солдата на фронте приходится два солдата в тылу, то общая численность армии составит примерно 750 тыс. Такой простой подсчет помогает быстро определить степень достоверности сообщаемых сведений. Однажды я прочитал, что, «согласно надежной информации», в одном коротком сражении немцы потеряли 200 тыс. убитыми на сравнительно небольшом участке русского фронта. Если руководствоваться нашим правилом, тогда получится, что в сражении участвовали германские войска общей численностью 15 млн. человек, что в три раза больше численности всех германских вооруженных сил, находившихся в России.
Читать дальше