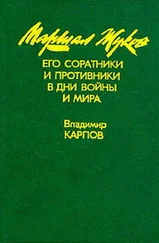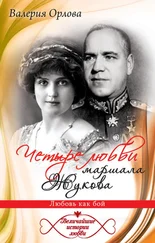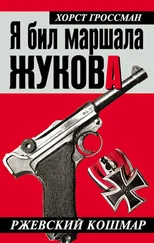По просьбе правительства МНР советское руководство поставило задачи нашим войскам -оказать помощь в отражении агрессии. 11 мая 1939 г. японцы неожиданно напали на монгольские пограничные заставы в районе озера Буйр-Нур и продолжали расширять военные действия. Монгольские части отошли к р. Халхин-Гол. Недостаточно активно и решительно действовали советские войска под командованием комдива Н.В. Фекленко. Сталин, проявив недовольство действиями советско-монгольских войск, потребовал направить туда другого командира, который был бы способен не только исправить положение, но и при случае "надавать японцам". По рекомендации С.К. Тимошенко в район Халхин-Гола был направлен Г.К. Жуков, который вскоре был назначен командиром 57-го особого корпуса, преобразованного затем в 1-ю армейскую группу. Задача этой группы состояла в том, чтобы разгромить японские войска, вторгшиеся на монгольскую территорию, и восстановить положение по государственной границе. Задача эта была крайне сложной. В июне японское командование сосредоточило здесь 38-тысячную группировку, 135 танков, 225 самолетов. Советско-монгольские войска, оборонявшиеся восточнее р. Халхин-Гол, имели 12,5 тыс. человек, 180 танков, 266 бронемашин, 874 самолета (по численности личного состава и авиации японцы имели тройное преимущество). В течение июля японцы подтянули к району боевых действий еще две пехотные и две кавалерийские дивизии, два танковых полка, большое количество авиации и готовились предпринять крупное наступление. Они пригласили в район боев военных атташе и корреспондентов Германии, Италии и других государств. Дело еще в том, что было крайне затруднено снабжение наших войск, так как ближайшая железнодорожная станция находилась в 750 км. По настоятельной просьбе Г. Жукова советским командованием было принято решение об усилении 1-й армейской группы дополнительным количеством войск и авиации. В частности, в район боевых действий были направлены опытные летчики, воевавшие в Испании, во главе с комкором Я. В. Смушкевичем. Учитывая недостаток сил и в целом всю сложность обстановки, Г. Жуков принял решение до сосредоточения дополнительно выделенных ему войск перейти к активной обороне. Он не растягивает свои войска и, несмотря на ограниченное количество имеющихся сил и средств, планирует создать сильный резерв и подготавливает контрудар из глубины. Но предназначенные для этого войска были еще на подходе. По мере усиления авиации Жуков активизирует ее действия и добивается завоевания господства в воздухе. Японские войска перешли в наступление 3 июля, форсировали р. Халхин-Гол и захватили на ее западном берегу высоту Баин-Цаган, создав угрозу окружения советско-монгольских войск на восточном берегу реки. В районе прорыва вражеских войск не было каких-либо свободных сил и средств для того, чтобы остановить их продвижение. Немедленно могли быть введены в бой лишь находившиеся на марше 11-я танковая бригада и мотоброневые части. Но по существовавшим тогда военно-теоретическим взглядам и уставным требованиям бронетанковые части предназначались в основном для развития успеха и без усиления пехотой и артиллерией не могли направляться против плотных группировок противника с сильной противотанковой обороной. Элементарное правило военного искусства требовало вначале завершить марш танковых частей и хотя бы в короткие сроки подготовить их для выполнения боевой задачи. Но тогда противник получал время для того, чтобы закрепиться или вводом новых сил развить свой успех. В этой чрезвычайно острой обстановке Жуков идет на огромный риск: берет на себя всю полноту ответственности и, не испрашивая ни у кого из старших начальников разрешения, с ходу бросает 11-ю танковую, 7-ю мотоброневую бригады и отдельный монгольский броневой дивизион для контрудара по прорвавшейся японской группировке на западном берегу р. Халхин-Гол. Если вспомнить, какие тогда были времена и чем бы это обернулось для командира в случае неуспеха, такое решение было актом большой силы воли и мужества, на которые не каждый командир мог решиться. Японцы, не ожидавшие такого танкового удара, были вынуждены от наступления перейти к обороне. А затем совместными усилиями других соединений 1-й армейской группы японская ударная группировка была полностью разбита и отброшена на западный берег р. Халхин-Гол. После этого противник уже не пытался больше переправиться на западный берег реки, что создавало благоприятные условия для подготовки последующей наступательной операции наших войск. Японцы потеряли все танки, значительную часть артиллерии, 45 самолетов и около 10 тыс. личного состава. Правда, и наша танковая бригада потеряла почти половину танков и личного состава (убитыми и ранеными). Но промедление, боязнь ответственности, стремление действовать по шаблонным канонам привело бы к тому, что и задача была бы не выполнена, и потери были бы еще большими. Так же действовал А.В. Суворов в сражении под Рымником в 1789 г., когда он, вопреки всем правилам, с ходу атакует, в том числе кавалерией, укрепленный лагерь и наносит сокрушительное поражение турецким войскам, которые имели 4-кратное численное превосходство. Расчет в данном случае был на внезапность действий, на то, что противник не ожидает именно такого способа действий. Если сопоставить эти действия Суворова или Жукова с тем, что было с направлением майкопской бригады в Грозный в 1995 г., то напрашивается вывод, что не всякие действия вопреки канонам и обычному здравому смыслу приводят к успеху. В одном случае такие смелые неординарные действия предпринимаются в результате хорошей разведки и всесторонней оценки возможных действий противника, своих войск, и местности, на основе рискованного, но все же определенного расчета. В другом, когда всего этого нет, остается только надеяться на авось, что обычно оборачивается тяжелыми последствиями. После поражения в районе Баин-Цаган японское командование в августе готовит новое наступление силами 6-й армии, доведя численность ее войск до 75 тыс. чел., 500 орудий, 182 танков, более 300 самолетов. Но к этому времени была существенно усилена и 1-я армейская группа наших войск. В своем составе она имела 57 тыс. чел., 572 орудия и миномета, 500 танков и 515 боевых самолетов. Командующий 1-й армейской группой в этих условиях уже не собирается обороняться и ждать, когда противник снова перейдет в наступление. Он всячески форсирует подготовку своих войск, чтобы упредить противника в переходе в наступление. Японцы планировали перейти в наступление 24 августа, Жуков начал свое наступление 20 августа. Он решил сковать противника с фронта стрелковыми соединениями и ударами фланговых, в основном подвижных бронетанковых войск, окружить и уничтожить японскую группировку на восточном берегу р. Халхин-Гол. Несмотря на упорное сопротивление японских войск, ему удалось блестяще осуществить свой замысел. Была окружена и уничтожена 6-я японская армия. Ее потери составили 61 тыс. убитыми, ранеными и пленными. Советские войска потеряли 18,5 тыс. убитыми и ранеными. Советско-монгольские войска захватили трофеи: 200 орудий, 400 пулеметов, 12 тыс. винтовок и большое количество другой техники. Японское правительство обратилось с просьбой о прекращении военных действий. Прежде всего огромно военно-политическое значение достигнутой победы. Была не только ликвидирована угроза японского вторжения в МНР, но и существенно стабилизирована обстановка на Дальнем Востоке, почти на два с половиной года оттянуто вступление Японии во вторую мировую войну. А главное -- японское командование решило оставить Советский Союз на некоторое время в покое и повернуть свои завоевательские устремления в Юго-Восточную Азию и Тихоокеанскую зону. Военные действия в районе р. Халхин-Гол обогатили Красную Армию опытом ведения современных операций с массированным применением авиации и мотобронетанковых войск. Последние, по существу, были впервые применены для самостоятельных действий, в том числе для развития успеха, окружения и уничтожения противника. Были сделаны важные выводы для дальнейшего развития оперативного искусства и тактики, совершенствования организационной структуры войск, в частности, принято решение о формировании танковых и механизированных дивизий, объединенных в механизированные корпуса. Приобретен первый опыт борьбы за завоевание господства в воздухе. В ВВС начали создаваться бомбардировочные, истребительные и смешанные авиационные дивизии. Операция по окружению и уничтожению 6-й японской армии с одновременным созданием внешнего и внутреннего фронтов окружения в миниатюре явилась прообразом Сталинградской, Корсунь-Шевченковской, Бобруйской и других операций, которые с большим размахом и результатами были осуществлены в период Великой Отечественной войны под руководством или при активном участии Г.К. Жукова. Большое значение имела тщательная подготовка операции в течение 20 суток. Умело проведены маскировка сосредоточения и развертывания наступательных группировок, а также дезинформация противника. Разнообразными мерами создавалось впечатление о переходе к обороне и скрыты от него меры по подготовке к наступлению. Хорошо организованы управление (с выдвижением командующего на передовой командный пункт), материальное и техническое обеспечение войск. Налажено снабжение продовольствием и водой, что в условиях пустыни и оторванности от баз снабжения было одной из самых трудных задач. В Халхин-Голской операции Г.К. Жуков впервые проявил себя в боевой обстановке по-современному, незаурядно мыслящим, талантливым полководцем, способным не только умело ориентироваться в сложной обстановке и принимать творчески смелые решения, но и с огромной волей и настойчивостью проводить их в жизнь и организовывать выполнение поставленных задач. Многое из этого могли бы, видимо, показать и некоторые другие военачальники того времени. Но в сражении на Халхин-Голе особое значение имели те качества Жукова, которые едва ли кто-либо в том же объеме и так последовательно мог проявить. Это его высочайшее чувство ответственности, не только военное, но и огромное гражданское мужество. Без этого самые хорошие его решения и другие выдающиеся способности не были бы реализованы. Например, во время боев в районе озера Хасан в 1938 г. действиями одной -- двух дивизий управляли командир корпуса, командующий армией, оперативная группа Г.М. Штерна, командующий войсками округа В.И. Блюхер, прибывший из Москвы Л.З. Мехлис и другие начальники. В результате постоянного некомпетентного вмешательства последнего в действия войск управление ими было просто дезорганизовано и подчиненные командиры в ряде случаев не знали, чей приказ выполнять. В. Блюхер не смог всему этому противостоять. Совсем по-другому действовал Г. Жуков. После ознакомления с обстановкой в штабе корпуса он немедленно выехал в действующие впереди части, где, оказывается, ни разу не был прежний командир корпуса. Последний отказался выехать в боевые порядки войск вместе с Жуковым, ссылаясь на то, что его в любой момент могут вызвать к телефону из Москвы. Жуков был удивлен также тем, что командир и штаб корпуса управляли войсками, находясь в 120 км от линии фронта, и решительно выдвинул свой командный пункт вперед; а также создал передовой командный пункт, расположив его вблизи передовых частей. Кроме того, Жуков с первого дня прибытия в Монголию твердо поставил себя хозяином положения. Однажды, когда в результате отчаянных атак японцев для наших войск, действовавших на восточном берегу р. Халхин-Гол, создалось опасное положение, прибывший из Москвы маршал Г.И. Кулик потребовал отвести войска на западный берег реки. И в первую очередь убрать с плацдарма артиллерию (чтобы она не могла попасть к противнику), оставив тем самым одну пехоту без артиллерийской поддержки. Георгий Константинович сразу же дал телеграмму Сталину и Ворошилову о недопустимости такого решения и обратился с просьбой дать ему возможность самому командовать войсками и оградить его от вмешательства других должностных лиц. Московское руководство было вынуждено согласиться с Жуковым и он избавился от некоторых советчиков, которые влезали во все дела, но ни за что не хотели отвечать. Произошло у него столкновение и с командующим фронтовой группой Г. Штерном. На третий день наступательной операции на Халхин-Голе, когда японцы оказывали упорное сопротивление на северном фланге и наступление затормозилось, Штерн порекомендовал командующему 1-й армейской группой "не увлекаться", остановиться, перегруппировать силы, а потом продолжать наступление. Жуков с этим не согласился, так как приостановка наступления давала противнику возможность более прочно закрепиться и усилить оборону, что могло только увеличить наши потери. Как вспоминает Жуков: "Потом я спросил Штерна, приказывает ли он мне, или советует. Если приказывает, пусть напишет письменный приказ. Я предупредил его, что опротестую этот письменный приказ в Москве, потому что не согласен с ним. Он ответил, что не приказывает, а рекомендует. Я сказал: "Раз так, я отвергаю ваше предложение. Войска доверены мне, и командую ими здесь я. А вам поручено поддерживать меня и обеспечивать мой тыл. Я прошу вас не выходить из рамок того, что вам поручено". Позже Штерн снял свое "предложение". Через сутки подвижные части Северной группировки войск обошли японский опорный пункт в районе высоты Палец и, развивая наступление, соединились с частями, наступавшими с юга и завершили окружение противника. Только успешные действия и спасли Жукова. В случае неудачи все эти Штерны, Кулики и Мехлисы воспользовались бы ситуацией, обвинили его всех грехах и просто-напросто растоптали бы. И надо было иметь именно жуковский характер, чтобы в таких ситуациях устоять, не сломаться и делать свое дело. Эта уникальная полководческая черта Жукова, так много значившая в годы Великой Отечественной войны, дала знать о себе уже на Халхин-Голе. Вместе с тем, если не идеализировать Жукова, а подходить к нему как к незаурядному, но живому человеку, то не совсем объективно было бы изображать его так (как это иногда делается), как будто он во всем действовал напролом и был чужд всяким компромиссам, не шел навстречу другим людям. Ведь его твердость и непреклонность в отстаивании тех или иных решений, которые в те времена в любой момент могли оборвать и службу и саму жизнь, проистекали не только из его личного мужества, но и прежде всего из чувства величайшей ответственности перед народом за порученное дело, за судьбу отечества, которому угрожала смертельная опасность. Перед лицом этого высокого долга он при необходимости мог быть и гибким, уступать по некоторым даже щепетильным вопросам. В связи с этим не только ради справедливости, но и понимания всей сложности ситуаций, в которые попадал полководец, можно было бы теперь уже сказать и о таком малоизвестном факте. С прибытием Жукова в Монголию начальником штаба 57-го особого корпуса был полковник А.М. Кущев, к которому, видимо, уже "прицеливались" особые органы. Во время одной из бомбежек японской авиацией командного пункта оборвалась связь с соединениями. Момент для управления войсками был острый -- без связи оставаться нельзя, и нач. штаба корпуса, несмотря на продолжающиеся вражеские бомбовые удары, выскочил из укрытия, чтобы посмотреть, что же произошло с линиями связи. Вскоре на него поступил донос, что он выбегал из укрытия для того, чтобы перерезать телефонные провода и оставить корпус без связи. Георгий Константинович вначале пытался защитить А.М. Кущева, но почувствовав, что обостряются отношения с "органами", не стал упорствовать, надеясь, как он говорил позже, после окончания боев переговорить об этом с Наркомом Ворошиловым. Но Кущев все же был арестован и только позже освобожден. Войну он уже заканчивал снова под командованием Жукова в должности начальника штаба 5 ударной армии 1-го Белорусского фронта при взятии Берлина. Об этом во время учения в БВО в 1955 г. Жуков вспомнил в связи с тем, что рекомендовал маршалу Тимошенко взять к себе генерала Кущева заместителем командующего войсками округа. В последующем генерал Кущев много лет проработал представителем командования Варшавского Договора в Чехословакии. На Халхин-Голе у Жукова возникали некоторые непростые ситуации и по взаимодействию с монгольскими войсками, и он вовремя уяснил, что с них невозможно так же требовать, как со своих войск. Все это и многое другое приходилось терпеливо сносить. Вот в таких неоднозначных условиях приходилось начинать Жукову свой полководческий путь. За успешные действия по разгрому японских войск в районе р. Халхин-Гол, умелое управление войсками и проявленное мужество Г.К. Жуков был удостоен звания Героя Советского Союза; в июне 1940 г. ему присвоено воинское звание -- генерал армии. Накануне и в начале войны После Халхин-Гола Жуков был назначен командующим войсками Киевского особого военного округа. Было ясно, что война уже назревает, и он со свойственной ему кипучей энергией начал заниматься разработкой оперативных и мобилизационных планов, подготовкой подчиненных органов управления и войск к выполнению поставленных перед ними задач с учетом приобретенного им боевого опыта, уроков советско-финской войны и начавшейся второй мировой войны. Шла также напряженная работа по развертыванию и формированию новых механизированных, авиационных, артиллерийских и других соединений и частей. Одновременно новому командующему пришлось заниматься подготовкой и проведением похода советских войск по освобождению Сев. Буковины, Бессарабии. По договоренности с румынским правительством советским войскам следовало продвигаться ежесуточно на 20 км по мере ухода румынских войск. При этом румыны должны были оставлять на местах железнодорожный состав, оборудование промышленных предприятий. Однако в нарушение этого соглашения они пытались кое-что увезти с собой. Тогда Жуков по своей инициативе принимает решение высадить в районах переправ через р. Прут две воздушно-десантные бригады и навстречу им выслать танковые части, чтобы пресечь несанкционированные действия румынских властей. Последние подняли шум. От Жукова потребовали объяснений, но в дальнейшем Сталин одобрил его действия. В ходе подготовки и проведения похода Жуков получил практику по управлению войсками фронта и имел возможность предметно проверить боевую готовность войск округа, предназначенного для действий в случае войны на важнейшем Юго-Западном стратегическом направлении. В конце декабря 1940 -- начале января 1941 г. впервые был проведен оперативный сбор высшего руководящего состава Красной Армии под руководством Наркома обороны маршала С.К. Тимошенко. Характерно, что в отличие от сборов, практиковавшихся в послевоенные годы, на этом сборе с докладами, лекциями выступал не только руководящий состав Наркомата обороны, но и командующие, начальники штабов военных округов. Это позволяло, с одной стороны, более полно учесть их мнения и опыт, с другой -- достигалась более основательная подготовка и активное, заинтересованное участие на занятиях руководящего состава войск. В ходе сбора один из основных докладов по проблемам наступательных операций был поручен командующему войсками КОВО генералу Жукову. В своем докладе он глубоко проанализировал опыт наступательных операций германской армии в Польше, в Западной Европе, действия советских войск на Халхин-Голе, советско-финляндской войне и обосновал возможности общевойсковой армии, фронта по ведению наступательных операций, наиболее целесообразное построение, размах и возможные темпы ведения этих операций. Наиболее поучительным из опыта начавшейся второй мировой войны Жуков считал массированное применение авиации, танковых и моторизованных соединений, и широкое использование воздушных десантов. Его доклад привлек внимание участников сбора глубиной анализа, творческим подходом к рассмотрению ряда новых явлений в военном искусстве, аргументированностью выдвигаемых положений, четким изложением мыслей. В заключительной части доклада было подчеркнуто, что "при равных силах и средствах победу обеспечит за собой та сторона, которая более искусна в управлении и создании условий внезапности и использовании сил и средств. Внезапность современной операции является одним из решающих факторов победы...". Перечитывая доклад, сделанный 55 лет назад и сопоставляя с тем, что в последующем произошло, ясно видишь, что Жуков уже в то время в основном правильно уловил суть главных изменений, которые происходили в то время в способах подготовки и ведения наступательных операций. Это особенно наглядно проявилось в ходе оперативно-стратегических военных игр, проведенных в процессе сбора. Первая игра проходила со 2 по 6 и вторая с 8 по 11 января 1941 г. В этой игре за фронты или армии выступали лишь небольшие оперативные группы и управление войсками в полном объеме не отрабатывалось. В частности, за командование фронта вместе с командующим войсками фронта Г.К. Жуковым выступали 7 человек (начштаба, нач. оперотдела штаба, зам. нач. штаба фронта по тылу, нач. управления ВОСО, командующий и начальник штаба ВВС), за армии по 3 человека (командующий, начштаба и командующий ВВС). Действия обучаемых оценивались в основном по принятым ими решениям, оперативным расчетам и отданным оперативным директивам, боевым приказам армиям. На первой игре Г.К. Жуков командовал Северо-Восточным фронтом "Западной стороны". Ему противостоял Северо-Западный фронт "Восточной стороны" во главе с генерал-полковником Д.Т. Павловым. На второй игре Жуков командовал Юго-Западным фронтом "Восточной стороны", ему противостоял Южный фронт "Западной стороны" под командованием генерал-лейтенанта Ф.И. Кузнецова. По исходной оперативной обстановке на военную игру положение сторон было дано на 10-й день войны. Поэтому самые трудные вопросы стратегического развертывания и ведения операций в начале войны не отрабатывались. Вообще эта проблема высшим военным руководством явно недооценивалась. Обучаемые принимали решения по обстановке, сложившейся в ходе начавшейся войны. Анализ решений по этой обстановке, проведенной руководством военной игры, показал, что на обеих играх существенное преимущество получила сторона, которой командовал Г.К. Жуков. По заключению руководства именно его войска могли выиграть "сражение". Он более глубоко анализировал обстановку за свои войска и противника, самым непостижимым образом подмечал наиболее слабые стороны оперативного положения и боевых возможностей противостоящей стороны, умело оценивал местность и в своих решениях, как правило, упреждал противника в перегруппировке войск, наращивании усилий, в завоевании господства в воздухе, в решительном массировании сил и средств на направлении главного удара, добивался более выгодного положения своих войск, обеспечивающего нанесение ударов по флангам основных группировок противника. Причем Жуков показал хорошее знание оперативно-стратегических взглядов германской армии. В ходе игры возникали драматические моменты для восточной стороны. Они оказались во многом схожими с теми, которые возникли при нападении фашистской Германии на Советский Союз в июне 1941 г. Таким образом, если Жуков в своем докладе показал глубину теоретических знаний, умение мыслить по-современному, то в ходе военных игр выявилось органическое сочетание им теории и практики, умение с учетом конкретных условий обстановки творчески подходить к решению сложных оперативно-стратегических задач. Причем оперативные решения подкреплялись обоснованными расчетами, принятием необходимых мер по организации взаимодействия, материального и технического обеспечения войск в предстоящей операции. Его решения были настолько убедительны, что даже командующие противостоящей стороны, в частности, Д.Г. Павлов, вынуждены были признать, что их войска в конечном счете оказывались в менее выгодном положении. Вообще доклады и полководческие действия Жукова на сборе произвели большое впечатление на высшее политическое и военное руководство. Уже на второй день после разбора военной игры Сталин вызвал Жукова и предложил ему должность начальника Генерального штаба. Георгий Константинович, по его словам, пытался отказаться, сославшись на то, что все время служил на командных должностях и не имеет опыта штабной работы. Но Сталин настоял на своем. Для Жукова началась совершенно новая полоса в жизни и на службе. В должности начальника Генерального штаба он пробыл около 7 месяцев в самые напряженные и сложные периоды накануне и с началом войны. Причем перед войной около 5 с половиной месяцев. Конечно, за это время никто, в том числе и Жуков, не мог в полной мере освоить эту сложнейшую и ответственную должность. Всегда считалось, что для настоящего становления начальника Генштаба требуется не менее 3-4 лет. Мольтке-старший 30 лет возглавлял германский Генштаб. Что-то, с точки зрения организации управления вооруженными силами, тщательности стратегического планирования, выработки более совершенной системы поддержания боевой и мобилизационной готовности войск (сил), он возможно не смог осуществить так, как это сделал бы более опытный начальник Генштаба. И действительно, накануне войны в этих вопросах было много упущений и ошибок. Но надо признать и другое: с точки зрения трезвости оценки обстановки, самостоятельности, инициативы, принципиальности и настойчивости в принятии ряда мер по подготовке вооруженных сил к отражению агрессии в обстановке того времени вряд ли Б. М. Шапошников или другой опытный начальник Генштаба мог сделать то, что удалось сделать Тимошенко и Жукову. Во всяком случае могло не быть и таких решений, как частичное отмобилизование (призыв 800 тыс. человек) для доукомплектования пограничных военных округов, выдвижение 4-х армий из глубины на рубеж реки Днепр, что позволило с середины июля создать новый фронт обороны к северу от устья Березины. Да и директива о подготовке войск к отражению нападения фашистской Германии возможно не была бы подписана и вечером 21 июня 1941 г., когда наши пограничные военные округа могли оказаться в еще более тяжелом, а может быть и непоправимом положении. К тому же Жуков обладал и рядом таких качеств, которые особенно важны для военачальника, возглавляющего Генштаб в чрезвычайных условиях 1941 г. Это прежде всего трезвый ум, отменная память, умение уловить суть самой сложной противоречивой обстановки, предвидеть возможный ход ее развития, сохранить взвешенность и самообладание, мужество и принципиальность в отстаивании предлагаемых решений. А.М. Василевский, Н.Ф. Ватутин, А.А. Гречко и другие работавшие в Генштабе в начале войны генералы и офицеры отмечали, что Жуков для них всех являл собой воплощение полной уверенности, твердости духа, спокойствия, непоколебимой веры, что сложившееся тяжелое положение еще можно изменить и обеспечить перелом в пользу наших войск. Особенно большое значение имела его огромная работоспособность. Еще до войны он работал по 15--16 часов в сутки, а с началом войны почти круглые сутки. Без такой выносливости и работоспособности при всех других чертах таланта ни один штабной офицер и тем более начальник Генштаба не может реализовать лучшие свои свойства и выдержать неимоверную нагрузку и напряжение, которые приходится испытывать штабам всех степеней во время войны. Все эти качества у Жукова проявились сполна и может быть уберегли нашу армию от многих напастей, которые благодаря этому не случились. Надо иметь в виду, что после освобождения Западной Белоруссии, Западной Украины, Сев. Буковины, Бессарабии, окончания советско-финской войны изменилась государственная граница на Западе, основные группировки войск выдвинулись вперед до 300 км. Поэтому требовалась переработка всех оперативных и мобилизационных планов, доведение их до военных округов и организация их исполнения. В соответствии с этими планами уточненные задачи округам по прикрытию государственной границы Генштабом были доведены в начале мая 1941 г. Штабы округов только к началу июня разработали свои планы и представили их на утверждение в Наркомат обороны. В соединениях и частях эта работа так и осталось незавершенной. В связи с явными приготовлениями фашистской агрессии против нашей страны возникала срочная необходимость повышения боевой готовности войск. Но высшим политическим руководством решения по этим вопросам всячески сдерживались. В последнее время много различных суждений о записке Генштаба от 15.05.1941 г. с предложением о нанесении упреждающего удара по немецко-фашистским войскам. Сама записка отражает, конечно, жуковский дух и его полководческий почерк. Но появление такого документа в мае 1941 г. не случайно и он не мог родиться только по инициативе Жукова и генштабистов. Действительно, в политическом руководстве "наступательные настроения" имели место. В активно-наступательном духе было выдержано выступление Сталина перед выпускниками военных академий 5 мая 1941 г. Вместе с тем, как говорил Молотов в беседе с писателем Ф. Чуевым, выбор в пользу "наступательной политики" не ставил перед собой агрессивных целей, не провоцировал Германию на "превентивную войну". В политическом плане эти наступательные установки были больше рассчитаны на поднятие морального духа армии и народа. Упомянутый выше доклад от 15.05.41 г. был написан А.М. Василевским и его должны были подписать нарком обороны С.К. Тимошенко и начальник Генерального штаба Г.К. Жуков. Но документ хранится в архиве без их подписей. Неизвестно также, был ли он доложен Сталину и рассматривался ли он установленным в то время порядком. На этот счет существует несколько неподтвержденных версий. В принципе любой Генштаб обязан предусматривать различные варианты, способы действия. Упомянутый жуковский план предназначался на последующий период, когда была бы обеспечена необходимая готовность страны и вооруженных сил и на тот случай, если состоится политическое решение на упреждающие действия. Больше надо удивляться, почему такого плана не было до прихода Жукова в Генштаб. Но многие обстоятельства того времени говорят за то, что упреждающий удар со стороны Советского Союза, по крайней мере в 1941 г., был практически исключен и не мог быть реализован, если бы даже кто-то этого захотел. Во-первых, не было политического решения на превентивную войну против Германии. Советское руководство не могло не понимать, что страна и вооруженные силы еще не были готовы к войне. Экономика не была переведена на военное положение. Производство новых образцов танков, самолетов и других видов вооружения только началось. Красная Армия находилась в стадии коренной реорганизации. Советскому Союзу было крайне необходимо оттянуть начало войны хотя бы на 1--2 года. Кроме того, Гитлер до последнего момента продолжал свою политическую игру, пытаясь склонить на свою сторону Англию, где были влиятельные прогерманские силы. Именно для контакта с ними был направлен туда Гесс. Что значило в такой обстановке предпринять упреждающий удар против Германии? Советский Союз предстал бы перед всем миром в качестве агрессора и в той же Англии могли взять верх силы, выступающие за союз с Германией. Советская разведка обо всем этом докладывала Сталину, и поэтому он всячески избегал шагов, которые могли бы спровоцировать войну. Во-вторых, для нанесения упреждающего удара необходима готовая, отмобилизованная и развернутая для войны армия. Но по изложенным выше соображениям Сталин не хотел идти на полное мобилизационное и оперативное развертывание вооруженных сил. Частичное отмобилизование 800 тыс. человек и переброска из глубины страны некоторых армий (всего 28 дивизий) не позволяло создать группировки, необходимые для проведения наступательных операций. А без этого невозможно начинать войну. Попытки командующих выдвинуть к госгранице хоть какие-то дополнительные силы жестко пресекались. Сталин и Нарком обороны требовали от Генштаба немедленного прекращения подобных действий. Так, 11.06.41 г. начальник Генштаба Г.К. Жуков направил командующему КОВО телеграмму: "Народный комиссар обороны приказал: 1) Полосу предполья без особого на то приказания полевыми и уровскими частями не занимать. Охрану сооружений организовать службой часовых и патрулированием. 2) Отданные Вами распоряжения о занятии предполья уровскими частями немедленно отменить". Приходилось отдавать и ряд других таких же распоряжений. Пусть те, кто придерживается версии о превентивной войне с нашей стороны хоть на минуту задумаются: как можно готовиться к упреждающему удару и отдавать подобные распоряжения? Как отмечал Г.К. Жуков, "введение в действие мероприятий, предусмотренных оперативным и мобилизационным планами, могло быть осуществлено только по особому решению правительства. Это особое решение последовало лишь в ночь на 22 июня 1941 года, да и то не полностью". Даже с началом войны в первые часы Сталин еще не терял надежды, что конфликт, возможно, удастся погасить. Он, конечно, серьезно ошибался, но внутренне он был уверен, что войны еще можно избежать. Как писал Черчилль в своих мемуарах, Сталин в августе 1941 г. сказал ему: "Мне не нужно было никаких предупреждений. Я знал, что война начнется, но я думал, что мне удастся выиграть еще месяцев шесть или около этого". И к этому, а не к упреждающему удару стремился Сталин в тот период. В-третьих, не было утвержденного плана стратегического развертывания для нанесения упреждающего удара не только в Генштабе, но и в военных округах. Последние никаких задач на этот счет не получали. По оперативным вопросам военные округа имели задачу: силами войск прикрытия отразить вторжение противника и после полного развертывания основных сил фронтов перейти в наступление. Очевидно, что переход в наступление после отражения вторжения противника и упреждающий удар -- это не одно и то же. Например, согласно "Плану действий войск в прикрытии на территории Западного особого военного округа", представленного на утверждение Наркома обороны в июне 1941 г., были определены следующие общие задачи войск округа по обороне госграницы: "а) Упорной обороной полевых укреплений по госгранице и укрепленных районов: 1) Не допустить вторжения как наземного, так и воздушного противника на территорию округа; 2) Прочно прикрыть отмобилизование, сосредоточение и развертывание войск округа...". Люди, не посвященные в вопросы оперативного планирования и их практической реализации, полагают, что стоит собраться и поговорить высшему руководству о тех или иных желательных, на их взгляд, способах действий армии, как сразу следует их осуществление. Но после утверждения оперативного плана Генштаба для разработки соответствующих планов объединений, соединений и частей (с допуском ограниченного количества исполнителей) и практической организации их выполнения при самой интенсивной и напряженной работе требуется не менее 3--4 месяцев. Совершенно очевидно, что план действий, изложенный в докладной от 15.05.41 г., если бы он даже был утвержден, ни при каких обстоятельствах не мог быть реализован на практике. Версию о готовившемся упреждающем ударе с советской стороны некоторые авторы пытаются обосновать тем, что войска фронтов не располагались в оборонительной группировке, не были подготовлены и оборудованы в инженерном отношении оборонительные рубежи в глубине. Но все это не имеет прямого отношения к идее упреждающего удара. Эти упущения связаны с устарелым представлением о характере военных действий в начальный период войны и общей недооценкой в предвоенные годы оперативной и стратегической обороны. Ведь не только оборонительные, но и наступательные операции не были подготовлены должным образом. Таким образом, подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что в 1941 г. Советский Союз никакого превентивного удара против Германии нанести не мог. Каким все же на деле был стратегический замысел действий Красной Армии: наступательным или оборонительным? В основе своей планы Красной Армии носили наступательный характер. В случае начала войны имелось в виду соединениями прикрытия отразить вторжение противника, завершить отмобилизование и затем перейти в решительное наступление. Но такой способ действий не имеет ничего общего с упреждающими действиями и тем более с превентивной войной. Если к тому же учесть, что советские войска не были приведены в боевую готовность, даже после того, как нападение на СССР свершилось, войскам был отдан приказ отразить наступление противника, но госграницу не переходить, то ни о каком нападении не может быть и речи (стоит только вдуматься: готовить превентивный удар и с началом войны требовать от войск границу не переходить!). Вместе с тем со всей определенностью можно сказать, что начиная первыми военные действия, как предлагал Жуков, войска Красной Армии не понесли бы столь больших потерь, особенно в авиации, действовали бы более организованно, чем это удалось в июне-июле 1941 г. И даже в случае неудачных наступательных операций и встречных сражений имели бы возможность в более благоприятных условиях переходить к обороне. Противник лишился бы возможностей для нанесения внезапных ошеломляющих ударов. Наиболее благоприятный момент для нанесения упреждающего удара по германской армии был в мае-июне 1940 г., когда шли военные действия против Франции, но такие действия не входили в намерения СССР. Примечательно, что историки и политики, поднимающие шум по поводу этого жуковского плана, считают правомерным уже состоявшийся превентивный удар Гитлера в 1941 г. и гневно осуждают лишь предполагавшийся план Жукова. Если говорить в целом, то несмотря на огромную работу руководства страны по промышленной и военно-технической подготовке к войне, накануне ее были допущены и серьезные, теперь широко известные, ошибки и просчеты, в том числе и Генштабом, возглавляемым Жуковым. Недостаточно разрабатывались и осваивались формы и способы стратегической и оперативной обороны, а именно эти задачи пришлось решать в начальный период войны. Совершенно неправильно оценивались способы ведения операций в начальный период войны. Не была предусмотрена возможность перехода противника в наступление сразу всеми заранее развернутыми группировками войск одновременно на всех стратегических направлениях. И Жуков очень самокритично все это признавал. По данному поводу он писал: "При переработке оперативных планов весной 1941 года практически не были полностью учтены особенности ведения современной войны в ее начальном периоде. Нарком обороны и Генштаб считали, что война между такими крупными державами, как Германия и Советский Союз, должна начаться по ранее существовавшей схеме: главные силы вступают в сражение через несколько дней после приграничных сражений. Фашистская Германия в отношении сроков сосредоточения и развертывания ставилась в одинаковые условия с нами. На самом деле и силы и условия были далеко не равными". Опыт начавшейся войны в Европе с применением ряда новых способов стратегических действий явно недооценивался. Нарком обороны С.К. Тимошенко считал, что в смысле стратегического творчества опыт войны в Европе не дает ничего нового. Недооценка обороны и неправильная оценка изменившегося характера начального периода войны имели более тяжелые последствия, чем это иногда изображается в военной литературе. Дело ведь не в формальном признании или непризнании обороны, а прежде всего в тех практических выводах и мероприятиях, которые из этого вытекают. Во-первых, как показал опыт, следовало учитывать возможность внезапного нападения заранее отмобилизованного и изготовившегося к агрессии противника. А это требовало соответствующей системы боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил, обеспечивающей их постоянную высокую готовность к отражению такого нападения, более решительного скрытого наращивания боевой готовности войск. Во-вторых, признание возможности внезапного нападения противника означало, что приграничные военные округа должны иметь тщательно разработанные планы отражения вторжения противника, то есть планы оборонительных операций, так как отражение наступления превосходящих сил противника невозможно осуществить мимоходом, просто как промежуточную задачу. Для этого требуется ведение целого ряда длительных ожесточенных оборонительных сражений и операций. Если бы эти вопросы теоретически и практически были разработаны и такие планы были, то в соответствии с ними по-другому, а именно -- с учетом оборонительных задач, располагались бы группировки сил и средств этих округов, по-иному строилось бы управление и осуществлялось эшелонирование материальных запасов и других мобилизационных ресурсов. Готовность к отражению агрессии требовала также, чтобы были не только разработаны планы оборонительных операций, но и в полном объеме подготовлены эти операции, в том числе в материально-техническом и инженерном отношениях, чтобы они были освоены командирами и штабами. Совершенно очевидно, что в случае внезапного нападения противника не остается времени на подготовку таких операций. Но этого не было сделано в приграничных военных округах. В теории и практике оперативной подготовки в штабах и академиях оборона отрабатывалась далеко не так, как пришлось ее вести в 1941--1942 гг., а как вид боевых действий, к которому прибегают на непродолжительное время и на второстепенных направлениях, с тем чтобы отразить нападение противника в короткие сроки и самим перейти в наступление. Из этих ошибочных позиций исходили и при постановке задач войскам накануне и в начале войны. Идея непременного перенесения войны в самом ее начале на территорию противника (причем идея не обоснованная ни научно, ни анализом конкретной обстановки, ни оперативными расчетами) настолько увлекла некоторых руководящих военных работников, что возможность ведения военных действий на своей территории практически исключалась. Все это отрицательно сказалось на подготовке не только обороны, но и в целом театров военных действий в глубине своей территории. На вновь присоединенных территориях требовалось построить новые сети аэродромов, большое количество дорог, мостов, осуществить наращивание линий и узлов связи. Однако необходимых сил и средств для этого не было. Медленно шло создание оборонительных сооружений. УРы на старой госгранице были частично демонтированы, из ДОТов снято артиллерийское вооружение. Строительство долговременных сооружений на новой границе еще не было закончено, система обороны в новых УРах не организована, между укрепленными районами оставались промежутки до 50--60 км. Большие изъяны были допущены в организации управления Вооруженными Силами на военное время. Отрицательно сказывалась разобщенность наркоматов обороны и ВМФ. Руководство ВМФ пыталось решать свои вопросы в отрыве от Генштаба. Неправильным было отношение к Генеральному штабу, как основному органу оперативного управления Вооруженными Силами. Даже после преобразования штаба РККА в Генштаб в 1935 г. из его ведения были изъяты вопросы формирования военно-технической политики, оргструктуры и комплектование Вооруженных Сил. В частности, организационно-мобилизационными вопросами ведало управление, подчиненное зам. Наркома Е.А. Щаденко. Это привело к недостаточной согласованности мероприятий по этим видам деятельности и решения их другими ведомствами Наркомата обороны в отрыве от оперативно-стратегических задач. Хотя и Жуков не проявил настойчивости, чтобы приостановить формирование такого количества механизированных и воздушно-десантных соединений, что привело к большому распылению танков и других средств. Главное разведывательное управление РККА начальнику Генштаба не подчинялось (начальник ГРУ был заместителем Наркома обороны), фактически же оно подчинялось самому Сталину. Очевидно, что Генштаб не мог полноценно решать вопрос стратегического применения Вооруженных Сил без своего разведоргана. В Наркомате обороны не было единого органа управления тылом, службы снабжения подчинялись Наркому и различным его заместителям. Всю систему управления Вооруженными Силами лихорадила чехарда с непрерывными перестановками руководящего состава в Центральном аппарате и военных округах. Так, за пять предвоенных лет сменилось четыре начальника Генштаба. За полтора года перед войной (1940-1941 гг.) пять раз (в среднем через каждые 3--4 месяца) сменялись начальники управления ПВО, с 1936 по 1940 г. сменилось пять начальников разведывательного управления и др. Поэтому большинство должностных лиц, не успевало освоить свои обязанности, связанные с выполнением большого круга сложных задач перед войной. Кстати, такая практика продолжалась и во время войны. Жуков не раз прямо говорил об этом Сталину, но на деле ничего не менялось. Накануне войны не был продуман даже такой вопрос: кто будет Главнокомандующим Вооруженными Силами во время войны? Первоначально предполагалось, что им должен быть нарком обороны. Но уже с самого начала войны эти функции взял на себя Сталин. До сих пор трудно понять, почему еще до войны не были подготовлены защищенные пункты управления для Главнокомандования, Генштаба и фронтов. Всю работу Главнокомандования, Наркомата обороны и Генштаба пришлось на ходу и экспромтом перестраивать применительно к военному времени. Все это не могло не сказаться отрицательно на управлении действующей армией и обеспечивающими ее органами. Слабость стратегического руководства фронтами в начале войны пытались компенсировать созданием в июле 1941 г. главкоматов северо-западного, западного и юго-западного направлений, но это еще больше усложнило управление войсками и от них вскоре пришлось отказаться. Во всех звеньях слабо была организована связь, особенно радиосвязь. В последующем это привело к тому, что проводная связь во фронтах, армиях, дивизиях была нарушена противником в первые же часы войны, что в ряде случаев привело к потере управления войсками. Серьезным упущением Генштаба и прежде всего Б.М. Шапошникова, было то, что им не была разработана четкая система приведения войск в высшие степени боевой готовности. Оперативные и мобилизационные планы были недостаточно гибкими. Они не предусматривали промежуточных степеней наращивания боевой и мобилизационной готовности войск, а также поочередного приведения их в боевую готовность. Войска должны были оставаться в пунктах постоянной дислокации или сразу полностью развертываться. В Генштабе не были установлены даже такие короткие сигналы (команды) как в ВМФ, для быстрого доведения распоряжений о приведении войск в боевую готовность. В условиях, когда на Жукова сразу обрушилось огромное количество нерешенных вопросов и острого недостатка времени и он не смог своевременно разглядеть и устранить эти упущения. Г.К. Жуков с самого начала своей деятельности в должности начальника Генштаба пытался поставить и решить некоторые из этих вопросов. Но при существовавшей тогда системе руководства оборонными делами их очень трудно было "пробивать". Не отвечали интересам ведения оборонительных операций в начале войны базирование авиации и расположение складов с материальными запасами. Аэродромы строились в непосредственной близости от границы, базирование на имевшихся аэродромах было крайне скученным. По свидетельству Маршала Советского Союза А.М. Василевского, Жуков и органы снабжения Наркомата обороны считали наиболее целесообразным иметь к началу войны основные запасы подальше от госграницы, примерно на линии Волги. Но такие деятели, как Г.И. Кулик, Л.3. Мехлис, Е.А. Щаденко категорически возражали против этого. Они считали, что агрессия будет быстро отражена и война во всех случаях будет перенесена на территорию противника. Эта линия, к сожалению, возобладала. В результате советская авиация и материальные запасы в первые же дни войны оказались под ударами противника. В целом у Советского государства были обширные планы по коренному преобразованию и повышению боевой мощи Красной Армии и Военно-Морского флота, рассчитанные на несколько лет. "Когда же все это будет нами сделано, -- говорил И.В. Сталин, -Гитлер не посмеет напасть на Советский Союз". Но все это, к сожалению, не суждено было осуществить. Война застала нашу страну и ее вооруженные силы в стадии многих незавершенных дел по перевооружению, реорганизации и переподготовке армии и флота, создания обороны, перестройки промышленности, создания государственных резервов и мобзапасов. Накануне войны особенно большое значение приобрела разведка. После войны много писали и говорили о том, что разведка своевременно докладывала об основных мероприятиях по сосредоточению германских войск у советских границ и их подготовке к наступлению. Но при этом излишне упрощается обстановка того времени и не учитывается, что поступали не только донесения, подтверждающие подготовку к нападению на СССР, но и данные, которые опровергали подобные сообщения. В 1941 г. тяжелый пресс предвзятых политических установок оказывал огромное давление не только на разведку, но и на всю практическую деятельность по организации обороны страны. Сталин, стремясь оттянуть войну, продолжал пытаться обеспечить безопасность страны политическими, дипломатическими средствами, в то время как другая сторона уже перевела курс своей политики на военный путь. В такой обстановке, особенно накануне войны, требовалось более активное и непосредственное участие в выработке военно-политических решений Наркомата обороны и Генштаба, но "боги" от политики считали все это излишним. Некоторые командующие (в частности, М.П. Кирпонос) просили у Москвы разрешения хотя бы предупредительным огнем препятствовать действиям фашистских самолетов, которые безнаказанно летали над нашей территорией. Но им отвечали: "Вы что -хотите спровоцировать войну?". Сталин не хотел дать Гитлеру повода для развязывания войны. Но ему это и не было нужно, как, например, при нападении на Польшу. Подводя итог сказанному, можно еще раз подчеркнуть, что без учета всей обстановки и того, какие действия диктовались сверху, трудно объективно оценить деятельность Жукова как начальника Генштаба и все, что произошло в начале войны.
Читать дальше