Таким образом, храмовники вводили новшества и вкладывали средства в сельскохозяйственный сектор. Фактически их деятельностью двигала могущественная сила, каковой является прибыль. Им требовалось производство, чтобы отсылать на Святую землю хлеб, лошадей, мясо и кожи. Им нужно было торговать, чтобы приобретать железо, дерево, оружие и высвобождать значительные денежные суммы. Стремление к прибыли проглядывает даже в мельчайших деталях хозяйства тамплиеров. В 1180 г. каталанские храмовники из Палау Солита дали ссуду сто двадцать морабетинов Гиллену де Торре; деньги были предоставлены под залог земель этого сеньора с составлением описи. Написавший ее брат-тамплиер не удовольствовался простым перечислением продуктов: для каждого из них он указал рыночную стоимость и тем самым оценил общую прибыль от заложенного имущества. Тамплиеры приспособили к своим нуждам (рынок, сбыт) свои бухгалтерские способности. Комментируя этот документ, Томас Биссон пишет:
Обосновавшись в изолированном сельском обществе, вдали от сарацинских опасностей, братья Палау чувствовали себя одинаково непринужденно на своих маленьких полях или крохотных местных рынках и в важных делах Барселоны, церкви и государства. Помимо других начинаний, они занялись еще и сельским хозяйством. [252] T. N. Bisson. Credit, Priees and Agrarian Production in Catalonia: A Templar Account (1180–1188) // Order and Innovation in the Middle Ages, Essays in Honor J. R. Strayer, W. C. Jordan et al. Princeton, 1976. P. 87–102.
В. Карьер уже заявил: «Монах-воин рассматривал земледелие как производство». [253] V. Carriere. Histoire et Cartulaire des templiers de Provins. P. XXXV.
Но, парадоксальным образом, он видел себя в контексте традиции, а не новшеств.
Тогда становится более понятной финансовая деятельность тамплиеров (как и госпитальеров, по поводу которых можно было бы сказать то же самое): она вписывается в общий контекст экономической деятельности военных орденов. Когда ордены приступили к исполнению своей миссии, им ничего не оставалось кроме как начать производство, чтобы получать прибыль. Какой странный ход мысли для людей аристократического происхождения, идеалом для которых было производить, чтобы раздавать, чтобы «расточать милости»!
Защита патримония
Монахи вообще и военные ордены в частности защищали свои привилегии, права и имущество с остервенением, которое сильно сказалось на их репутации: впоследствии обвинения в корыстолюбии заняли большое место среди претензий, предъявленных ордену Храма. Однако этот орден был не хуже и не лучше других. Правда, как мы уже видели, с его стороны имели место некоторые действия, давшие повод для этой критики.
Необходимо различать защиту собственности и привилегий. Привилегии предоставлялись церковными и светскими властями при определенных обстоятельствах. Ситуация менялась, и у властей возникал соблазн воспользоваться этим, чтобы упразднить то или иное послабление. В частности, усиление королевской власти во второй половине XIII в. и связанная с этим политика увеличения налогов умножали поводы к конфликтам не только с военными орденами, но и со всей совокупностью церковных институтов и властей. Сказанное справедливо для Франции при Филиппе Красивом, Арагона при Хайме II и Англии при Эдуарде I.
Споры о праве собственности изобилуют в начале истории ордена Храма, но они ему не присущи, и к тому же на основании их количества нельзя вынести какого-то определенного мнения об ордене — ни благоприятного, ни отрицательного.
На Западе XII в. дарение и отчуждение не совершались по желанию одного человека. Необходимо было согласие рода, линьяжа, который выступал гарантом против разбазаривания патримония. Несмотря на практику вознаграждения за пожертвование, благотворитель не был защищен от недовольства других членов семьи, что приводило к судебным разбирательствам: в Дузане Ведиана и его сын объявили об отказе в пользу ордена от земли, «которую мы несправедливо требовали и которая находится на территории Дузана». [254] Cart, de Douzens, A 76; см. также A 50 u A11.
Ранее 1220 г. рыцарь Андре де Россон отдал тамплиерам из Бонлье свои земли Россон и Оллефоль (в Обе); сам он вступил в орден и умер. Незадолго до смерти, а именно в 1220 г., он, а вместе с ним и его сын, подтвердил свой дар. Но дочь рыцаря, Агнесса, которая не давала законного согласия на пожертвование, потребовала свою долю наследства после кончины отца. Последовала долгая тяжба, прервавшаяся на время в 1224 г., когда Агнесса отказалась от своих прав. Однако в 1240 г. спор разгорелся с новой силой, когда Анри, сын Агнессы, переменил решение и завладел вышеупомянутыми землями. В1241 г. все завершилось общим примирением. [255] Abbe Petel. Les Templiers et les Hospitaliers dans le diocese de Troyes. Le Temple de Bonlieu. 1912.
Читать дальше




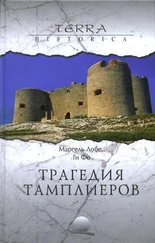


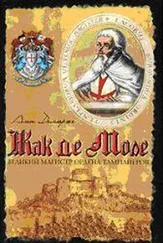
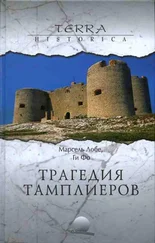
![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/391099/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin-thumb.webp)

