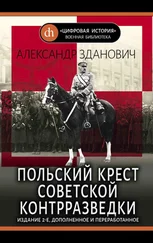Феликс Дзержинский находился под следствием еще год, но с ним уже работал другой следователь. Суд состоялся только 29 апреля 1914 года. Будущего председателя ВЧК приговорили к трем годам каторги. Не прояви Владимир Орлов принципиальности и объективности при производстве следственных действий, решение суда могло бы быть и более жестким.
Шпионские дела
Расследуя политические преступления, Владимир Орлов не раз сталкивался с фактами, когда революционеры укрывались на территории соседней Австрии, имели контакты с пограничными и жандармскими офицерами. Это наводило на мысль о возможности использования подпольщиков иностранной разведкой.
Он хорошо помнил, как в год, когда оканчивал юрфак Варшавского университета, разразился страшный скандал. По городу среди русской общины распространились слухи об аресте высокопоставленного военного за шпионаж в пользу Австрии. Слухи имели под собой реальную почву. На основании материалов политической полиции командование пресекло враждебную деятельность старшего адъютанта инспекторского отделения окружного штаба подполковника Гримма. Измена Отечеству со стороны офицера была явлением из ряда вон выходящим, поэтому скрыть сей факт, утопить его в отчетности среди дисциплинарных проступков и даже уголовных преступлений, совершенных военнослужащими округа, представлялось делом совершенно безнадежным. Но и афишировать предателя никто не собирался. Через некоторое время страсти улеглись. Гримм получил своё и направился под конвоем на каторгу отбывать долгий срок наказания.
Это был первый в России в XX веке шпионский процесс. Многие военные и юристы поняли, что дальше без специального контрразведывательного аппарата армия существовать не может, и в рапортах начальству предлагали конкретные организационные меры.
Ввиду секретности дела они не знали о существовании в столице так называемого разведочного отделения, хотя оно функционировало уже больше года.
Историки любят точные даты. Мы называем ее — 3 февраля 1903 года по новому стилю.
Тогда военный министр генерал-адъютант Алексей Николаевич Куропаткин представил Николаю II на «соизволение» строго секретный шестистраничный доклад, который в течение нескольких месяцев тщательно готовил узкий круг специалистов Военно-ученого комитета Главного штаба русской армии.
Непосредственное обращение к царю не являлось, конечно, событием исключительным. Еще со времен Александра II существовал порядок, согласно которому все дела министерств военного, морского и иностранных дел император рассматривал лично, обсуждал их, что называется, с глазу на глаз с высшими должностными лицами.
Что касается тайных дел, то заведенный порядок соблюдался неукоснительно и при последнем царе.
В докладе его составители, имея в виду сложность поимки иностранных агентов, писали: «Между тем, судя по бывшим примерам, обнаружение государственных преступлений военного характера до сего времени у нас являлось делом чистой случайности, результатом особой энергии отдельных личностей или стечением счастливых обстоятельств, ввиду чего является возможность предполагать, что большая часть этих преступлений остается нераскрытыми и совокупность их грозит существенной опасностью государству в случае войны…»
А война с Японией была уже не за горами.
Начало XX века дает нам массу примеров удачных или неудачных тайных агентурных (именно агентурных) акций со стороны всех крупных европейских держав. О предателе Гримме мы уже напомнили. Русская разведка несколько лет спустя обзавелась в Вене ценным источником — полковником Альфредом Редлем, который занимал одно время должность начальника агентурного отделения разведывательного бюро австрийского генштаба.
А как же действовать разведывательным органам иначе? Появление новых, значительно более разрушительных, видов оружия, нарастание противостояния коалиций государств — все это подталкивало генштабистов активизировать разведку, усиливало их стремление получать информацию заблаговременно и, по возможности, из тех центров, где сконцентрировались особо важные секретные сведения.
Действие, в свою очередь, рождало противодействие в виде создания специальных контрразведывательных органов.
В своем докладе военный министр А. Н. Куропаткин предлагал, в частности, учредить при Главном штабе «Особое разведочное отделение» (термин контрразведка утвердился не сразу. — А. З. ). Мыслилось, что орган этот будет небольшой — шесть—семь штатных агентов, делопроизводитель, писарь, а возглавит отделение штаб-офицер в чине майора или подполковника.
Читать дальше
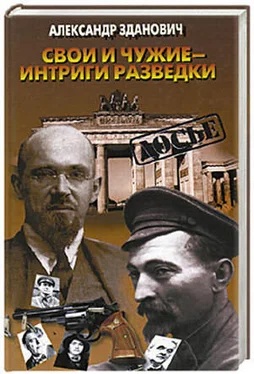
![Александр Руджа - Не чужие [СИ]](/books/33617/aleksandr-rudzha-ne-chuzhie-si-thumb.webp)

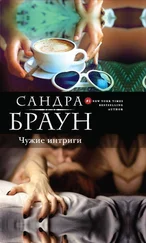

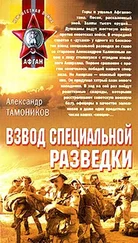
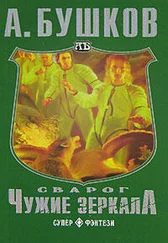
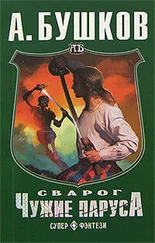
![Александр Зданович - Польский крест советской контрразведки [Польская линия в работе ВЧК-НКВД 1918-1938]](/books/414811/aleksandr-zdanovich-polskij-krest-sovetskoj-kontrrazvedki-polskaya-liniya-v-rabote-vchk-nkvd-1918-1938-thumb.webp)
![Александр Зданович - Тайные службы России - структуры, лица, деятельность [учебное пособие]](/books/430623/aleksandr-zdanovich-tajnye-sluzhby-rossii-struktur-thumb.webp)