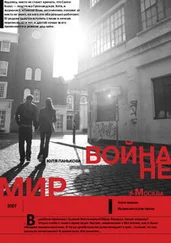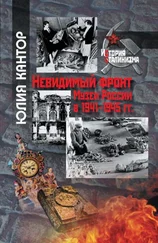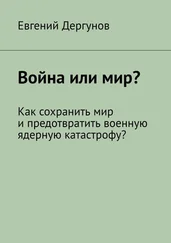Петроград не оправдал надежд ни восставших, ни властей:
он остался индифферентным. Политсводки 18—19 марта констатировали:
«Ликвидация Кронштадтского мятежа в массе населения не произвела того впечатления, какого следовало бы ожидать. В большинстве случаев — это недоверчивость к свершившемуся факту, чаще всего слышатся возгласы, что не могли пехотные части взять морскую неприступную крепость. Тут что–то не то… Настроение среди рабочих хорошее.
Обыватели ведут враждебную агитацию среди малосознательных рабочих, говоря о временном успехе и колоссальных потерях… недоверие падению Кронштадта. Тема дня — продовольствие, предстоящее распределение обуви»40.
Однако уже несколько дней спустя, благодаря снятию заградотрядов, распределению одежды и обуви и, конечно, массовой агитации на предприятиях, настроение как будто бы изменилось. Во всяком случае, ропщущих заставили замолчать:
«Настроение рабочих сильно поднялось. Газеты разбирают нарасхват и читают с неподдельной радостью… все рады счастливом концу и с гордостью говорят о героизме красных курсантов»41.
А победители начали расправу над гарнизоном Кронштадта.
Сам факт пребывания в крепости во время восстания считался преступлением. Все матросы и красноармейцы — участники событий — прошли через военный трибунал. Пленных среди осужденных не было, их расстреливали на месте. Под страхом наказания запрещалось даже оказывать помощь раненым матросам, которые после штурма оставались на балтийском льду и улицах Кронштадта.
Прошло несколько десятков открытых судебных процессов. Особенно жестоко расправлялись с моряками линкоров «Севастополь» и «Петропавловск». 20 марта слушалось дело по обвинению 13 человек с линкора «Севастополь » в мятеже и вооруженном восстании. Всех обвиняемых приговорили к расстрелу. В тот же день на заседании чрезвычайной тройки слушалось дело по обвинению 167 моряков линкора «Петропавловск». Всех приговорили к расстрелу. Один из самых крупных открытых процессов над моряками восставших линкоров состоялся 1—2 апреля.
Перед ревтрибуналом предстали 64 человека. 23 из них приговорили к расстрелу, остальных — к пятнадцати и двадцати годам тюрьмы. На следующий день по постановлению чрезвычайной тройки было расстреляно 32 моряка с «Петропавловска» и 39 — с «Севастополя», а 24 марта по постановлению тройки расстреляли еще 27 моряков.
С особым пристрастием карательные органы преследовали тех, кто во время кронштадтских событий вышел из РКП(б). Людей, «состав преступления» которых заключался только в сдаче партийных билетов, безоговорочно относили к разряду врагов (в том числе и участников Октябрьской революции) и судили. Заявление о выходе из партии трактовалась как неопровержимая улика в контреволюционной деятельности. К лету 1921 года только президиумом Петроградской губчека, коллегией Особого отдела охраны финляндской границы Республики, чрезвычайной тройкой кронштадтского Особого отделения Особого отдела охраны финляндской границы и реввоентрибуналом Петроградского военного округа к высшей мере наказания были приговорены 2 103 человека и к различным срокам наказания 6 459 человек. После кронштадтского мятежа осужденных стало так много, что власть озаботилась «социалистическим строительством» — созданием новых концентрационных лагерей. Этот вопрос был вынесен на заседание Политбюро ЦК РКП(б).
Репрессированные были реабилитированы указом Президента только в 1994 году:
«Признать незаконными, противоречащими основным гражданским правам человека репрессии, проводившиеся в отношении матросов, солдат и рабочих Кронштадта на основании обвинений в вооруженном мятеже»42.
А пункт указа «установить в г. Кронштадте памятник жертвам кронштадтских событий весной 1921 года» не выполнен до сих пор…
Вернувшись в Смоленск, где располагался штаб Западного фронта, Тухачевский женился на Нине Евгеньевне Гриневич, которую он «увел» от первого мужа — комиссара 4–й стрелковой дивизии Западного фронта Л. Аронштама.
Нине Гриневич, выпускнице московского Александровского института, дочери полковника царской армии Е. К. Гриневича, добровольно перешедшего в начале 1918
года на сторону большевиков, в то время было 20 лет.
В Смоленск она приехала к отцу, весной 1920 года переве денному в штаб Западного фронта из Ростова–на–Дону43.
Об истории знакомства Тухачевского с будущей женой можно узнать лишь из протокола ее допроса на Лубянке в 1937 году:
Читать дальше