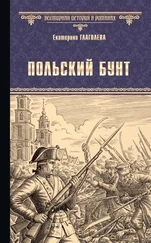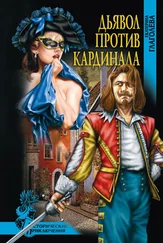При каждой мушкетерской роте имелся свой капеллан, которого король не обходил своими щедротами при раздаче бенефициев; так, аббат Улье, капеллан первой мушкетерской роты, получил пенсию в пятьсот ливров. (Постоянные военные капелланы находились при армии с конца XVI века.) Поскольку в дворянских семьях, как правило, старший сын становился военным, а один из младших – священником, иногда капелланы состояли в родстве с офицерами: например, в конце XVII века старшим капелланом мушкетеров был Жан Пьер де Лаборден, брат «серого мушкетера» Гильома де Лабордена. В каждой крепости или казарме, построенной Вобаном, имелась часовня; при Доме инвалидов, выстроенном в Париже, был заложен собор.
Военные имели право основать часовню. Например, Жан де Пюжо, происходивший из семьи профессиональных военных, среди которых были и французские гвардейцы (уроженец деревушки Пюжо Борден по соседству с Артаньяном), завещал триста ливров на строительство и украшение часовни Святого Духа, основанной в 1611 году при францисканском монастыре в городке Вик-ан-Бигорр.
Впрочем, военные редко отличались богобоязненностью. В конце Тридцатилетней войны англичане и французы подошли с двух сторон к бельгийскому городу Тильмон, в котором находились большие запасы продовольствия. Герцог де Шатильон предпринял все от него зависящее, чтобы предотвратить штурм города, однако, пока он ругался с англичанами, французы ворвались туда сами, круша все на своем пути, и разграбили даже церкви. Жертвой их неистовства стали и монахини местного монастыря. На увещевания настоятельницы, что они невесты Христовы, французский солдат ответил с циничным смехом: «Ну так мы наставим Богу рога».
Людовик XIV подавал пример совершенно иного рода. После взятия Намюра в 1692 году (эта нидерландская крепость впервые переходила в чужие руки) король пытался утешить отшельников из соседнего монастыря, лишившихся к тому же всех своих запасов хлеба, перевезенных в Намюр: монахи получили в два раза больше хлеба и сверх того крупные пожертвования; в монастыре разместили на постой только кардинала де Бульона, графа де Грамона и отца Лашеза, королевского духовника; король разрешил провезти пушку через монастырский сад только в случае крайней необходимости. Несмотря на такое отношение, монахи французов на дух не переносили, и один из них даже отказал королевскому дворецкому в бутылке пива, не согласившись обменять ее и на бутылку шампанского. Тогда же, во время тщательного обследования городских укреплений перед вступлением в город короля, французы обнаружили в обители иезуитов погреба, набитые порохом, существование которых святые отцы скрывали. Порох изъяли, но самих иезуитов не тронули.
Несмотря на благочестие, выказываемое королем (в особенности после его женитьбы на набожной госпоже де Ментенон), его гвардейцы относились к религии довольно пренебрежительно, особенно к ее обрядовой стороне. Капитан-лейтенант д'Артаньян крестил детей многих своих подчиненных, однако два его собственных сына, родившиеся в 1660 и 1661 годах, оба по имени Луи, при рождении получили только малое крещение (этот обряд могла совершить и повитуха). Крещены они были только в 1674 году, уже после смерти отца, когда им исполнилось соответственно тринадцть и четырнадцать лет. По просьбе короля, обряд совершил Боссюэ, епископ Мо, автор Декларации галликанской церкви. Крестными старшего были король и королева, младшего – дофин и мадемуазель де Монпансье.
Между тем в обществе были распространены самые разные суеверия. Сам кардинал Ришелье, который по своему положению был обязан с ними бороться, увешивал себя различными амулетами, ладанками и оберегами; короли обращались к астрологам за гороскопами. В 1580-1630 годах во всей Европе и, в частности, во Франции с новой силой разыгралась охота на ведьм; судебные преследования за колдовство прекратились только после 1680 года. Парижский парламент в этом плане проявлял гораздо меньше фанатизма, чем провинциальное правосудие, и в конечном счете постановил считать договоры с дьяволом и наведение порчи делом совершенно нереальным, а потому не подлежащим рассмотрению в суде. Приговоры выносили только по делам об отравлении и преступлениях на сексуальной почве, совершаемых людьми, которых мы сегодня назвали бы сатанистами. Тем не менее вплоть до XIX века каждый ребенок в Гаскони знал, как уберечься от ведьмы: если она протянула руку, чтобы наслать на тебя заклятие, надо быстро произнести про себя: «Пусть тебе дьявол дунет в зад», и тогда злые чары обратятся против нее самой. Завидев ведьму издали, надо сказать про себя: «Я тебя вижу, я тебя знаю, вылети в трубу». Внезапную болезнь и смерть «от сухоты» приписывали зависти недругов, заказавших преступному священнику «обедню святого Секария», которую нужно было служить глухой ночью с соблюдением множества сатанинских обрядов.
Читать дальше
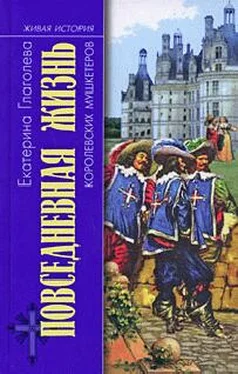
![Екатерина Глаголева - Дьявол против кардинала [Роман]](/books/30021/ekaterina-glagoleva-dyavol-protiv-kardinala-roman-thumb.webp)


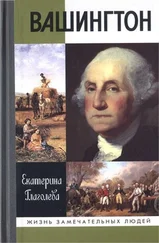



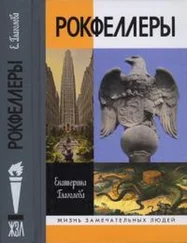
![Алексей Оленичев - Ноябрь 1700 года. Рассказ из жизни королевского мушкетера Карла [litres самиздат]](/books/437287/aleksej-olenichev-noyabr-1700-goda-rasskaz-iz-zhizn-thumb.webp)