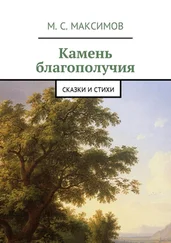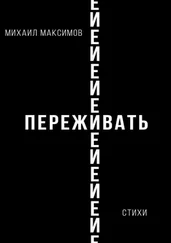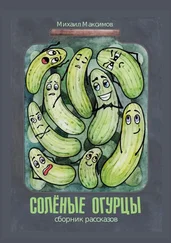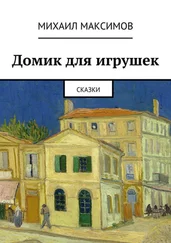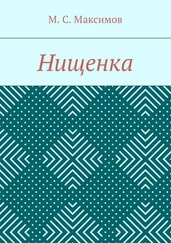Далее И. А. Шлаттер доказывает убыточность для государства чеканки всех этих монет, так как «золотой передел во всей Европе наблюдается как 1 против 15», а в России отношение золота к серебру было (кроме двухрублевиков Петра I) как 1:13 и 1:14, «почему и воспоследовало, что оных золотых монет весьма мало в России осталось». Реформа 1764 г. это отношение привела к 1:15 путем снижения пробы в серебряном рубле и уменьшения массы империала при сохранении прежней, 88-й пробы.
Последний раз русские червонцы чеканил Павел I в 1796 г. и 1797 г. Относительно червонцев и полуимпериалов 1796 г. имеются лишь данные, что они были изготовлены из колыванского и нерчинского золота: «на дело тех десяти тысяч червонцев и пятидесяти тысяч рублей полуимпериалов колыванское, нерчинское... золото... отдавать в сплавку». Однако нет данных, было ли золото сплавлено и перечеканено в монету вместе или порознь.
По поводу червонцев 1797 г. есть более точное указание — распоряжение президента Берг-коллегии Монетному департаменту от 10 марта 1797 г. о принятии мер «к скорейшему исполнению переделом состоящего на монетном дворе очищенного Екатеринбургского золота... в нынешние российские червонцы».
Но чеканка золотых монет в России велась все-таки в ограниченных количествах, так как своего золота было все еще недостаточно.
Открытие Л. И. Брусницына
В XIX в. основное количество золота в России стало добываться уже из россыпей, хотя россыпное золото в руки русских людей не давалось очень долго.
Еще в 1761 г. было написано и подано «В Правительствующий сенат нижайшее доношение от коллежского советника и профессора Михаилы Ломоносова», в котором рекомендуется: «Пески промывать и пробовать новоизобретенным мною способом, коим самый малый признак золота показать можно и, уповательно, что в толиком множестве рек, протекающем в различных местах по России, сыщется песчаная золотая руда, которая будет служить признаком, что вверху той реки надлежит действительно быть золотой руде в жилах». Эти обстоятельные предложения М. В. Ломоносова были известны Сенату, Академии наук, Берг-коллегии, однако на них долгое время не обращали внимания.
Как сообщает В. В. Данилевский, однажды к начальнику Березовских промыслов пришел мужичок с объявлением, что один из мастеровых нашел кусок золота и утаивает его. На допросе мастеровой признался: копая яму на козуль, он нашел кусочек золота, но не сообщил об этом никому из корыстных соображений, а также потому, что сколько в этой яме потом ни рылся, он больше не нашел ничего. Этому не поверили и подвергли его суровому наказанию. В результате мастеровой умер и унес, как считали, тайну найденного золота с собой в могилу.
Находкой мастерового заинтересовался штейгер Лев Иванович Брусницын. Спустя некоторое время он убедил нового начальника промыслов направить поисковую партию в места, где был найден самородок. Поиски продолжались все лето, но безрезультатно.
В 1814 г., занимаясь исследованием «откидных песков» с целью выявления возможности извлечения из них оставшегося золота, Л. И. Брусницын обратил внимание на две крупинки золота.
Вот его рассказ, опубликованный в 1894 г. в «Горном журнале» в честь 50-летия открытия россыпей золота на Урале.
Будучи руководителем работ Петропавловской рудотолчейной фабрики, находившейся при впадении речки Березайки в реку Пышму, он «нередко промывал пески прежде протолченных руд,... так как они от несовершенной их до того обработки заключали в себе еще довольно золота». Однажды в полученном золоте он «заметил, что две крупинки небольшие имеют некоторое отличие в цвете... долго их рассматривал... тем еще более, что на тех двух замечательных зернах не было ни малейших следов протолочки», т. е. они явно не бывали в золоторудной «толчее», придающей золотинкам из жильной руды плоский вид с острыми краями. Л. И. Брусницын установил, что в этом месте раньше было болото, для засыпки которого приносили землю из вреза штольни, пройденной 40 лет назад, устье которой, однако, уже было засыпано, заросло и потеряно. Он проследил возможный путь приноса земли и в месте, где он пересекал речку, провел опробование песка в надежде, что часть земли по пути высыпалась и здесь. «Я беру из речки на пробу песку — и что же, какое счастье: во время накладки еще песку нахожу сам кусок золота в 8 1/2 золотника; промыв же взятый песок, одну тачку в 3 пуда, получаю золота 2 золотника. Вот была радостная для меня находка; это было все равно что блуждающему в море и теряющему уже надежду вдруг попасть на берег. Тогда я, кажется, горы срыл бы земель и пустился отыскивать пески золотые. Эта находка решила все; с ней все сомнения вон».
Читать дальше
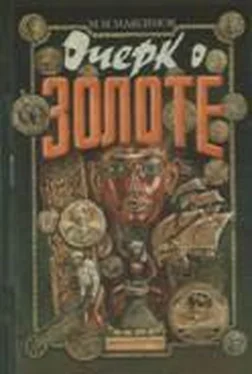
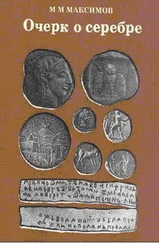
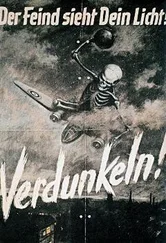

![Михаил Максимов - Ангел иллюзий [litres]](/books/402298/mihail-maksimov-angel-illyuzij-litres-thumb.webp)