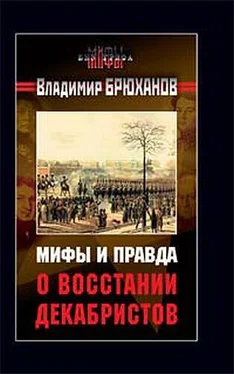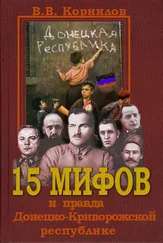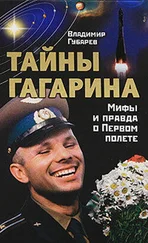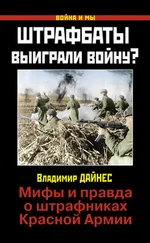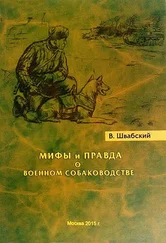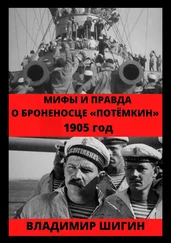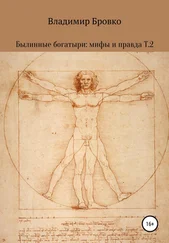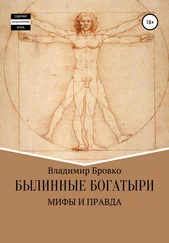Но на что же реальное могли надеяться заговорщики?
Для ответа на этот вопрос необходимо более пристально вглядеться и в социальное положение среды, к которой они принадлежали, и к их программным тезисам, целиком соответствующим этому положению.
Картина имущественного расслоения дворян, сложившаяся к рассматриваемому периоду, вполне характеризуется официальными статистическими данными, относящимися к 1835 году. Хотя цифры из года в год должны были меняться, но не принципиально: никаких крутых социально-экономических переломов после 1812 и до кануна реформы 1861 года не происходило — в этом смысле никак не повлиял и мятеж декабристов. Постепенные изменения шли лишь в одном направлении — в сторону повышения доли малоимущих помещиков (хорошее словосочетание!); усугубление представленной картины к 1861 году мы покажем ближе к описанию соответствующих событий.
Итак: к 1835 году общее число помещичьих семейств превысило 126 тысяч — это вместо 3 тысяч в 1700 году! При этом:
14,1% общего количества дворянских семейств уже вовсе не имели земельной собственности; при этом многие из них оставались чистыми рабовладельцами: на каждое из семейств этой категории в среднем приходилось по 3 крепостные души;
70,5% дворянских семей было мелкопоместными— менее чем по 100 душ на одно семейство; в среднем — по 22 души;
14,3% было среднепоместных— от 100 до 1000 душ крепостных; в среднем — по 289;
и, наконец,
менее 1,2% дворянских семей (1453 семьи из 126 103) было крупнопоместнымии владело более чем по 1000 душ; в среднем — по 2448 душ на одно семейство; им принадлежало 33 % всех крепостных крестьян.
Нетрудно подсчитать, что около 85 % дворянских семей имели в среднем по 19 крепостных душ. Согласно статистике, на это же количество крепостных, помимо собственного помещика, приходилось еще в среднем полтора семейства российских граждан из неподатных сословий — гражданских и военных служащих и духовенства, которые, в конечном итоге, содержались за счет все тех же крепостных.
Могло ли условно 19 крестьянских душ (считались только взрослые мужчины) прокормить самих себя и всех этих нахлебников, включая целое дворянское семейство, пытающееся вести образ жизни, красочно описанный А.С. Пушкиным, И.С. Тургеневым и Л.Н. Толстым?
Разумеется, это было неразрешимой проблемой. Декабристам это было прекрасно известно.
В 1826 году подследственный А.А.Бестужев писал из Петропавловской крепости к Николаю I: « мелкопоместные составляют язву России; всегда виноватые и всегда ропщущие и желая жить не по достатку, а по претензиям своим, мучат бедных крестьян своих нещадно. /…/ 9/10 имений в России расстроено и в закладе ».
Учитывая удельный вес мелкопоместных и беспоместных в общем количестве дворян, формулировку можно было бы и упростить: дворяне составляли язву России!Доля расстроенных имений, названная Бестужевым, подтверждает эту оценку. Дворянство никаким образом не могло быть аналогом современного среднего класса , по сей день отсутствующего в России.
Что же предлагали им (и дворянам, и России) декабристы?
Подавляющее число участников и «Северного», и «Южного» обществ (о «Соединенных славянах» — особая речь) за немногими исключениями (Рылеев и еще несколько) были аристократы: « В числе заговорщиков не было ни одного не дворянина, ни одного купца, артиста, ремесленника или выслужившегося офицера и чиновника. Все потомки Рюрика, Гедемина, Чингис-Хана, по крайней мере, бояр и сановников, древних и новых », — ревниво писал писал о них Греч, которого они в компанию не брали: он был сыном мелкого чиновника.
Почти все они принадлежали к числу крупных помещиков; среднепоместных среди них было меньшинство. Эти обстоятельства позволяют объяснить и то, почему данная публика составила костяк заговорщиков, и то, чего же они желали достичь в случае политического успеха.
Несмотря на богатство, поводов для недовольства у них хватало — все помещики, не исключая богатейших, теряли доходы в сложившейся экономической ситуации. Даже тесть Никиты Муравьева граф Г.И. Чернышев уже накопил долгов более чем на миллион рублей ассигнациями. Это была незначительная часть по сравнению с оценочной стоимостью его имущества, но речь теперь не могла идти об умножении владений; наоборот: на повестке дня стоял вопрос о распродаже — но где искать покупателя?
Читать дальше