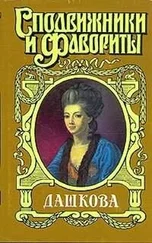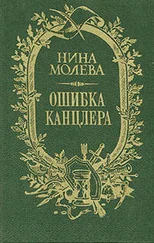— Охотно совету вашему, Григорий Николаевич, последую.
— Да и в сигнатуре написание имени твоего единым быть должно. Разночтения разве что холопу вчерашнему пристали, который до последней поры и вовсе без фамилии обходился. Дворянину то невместно. Пиши, как в книге шляхетской вписано.
— Так ведь Левицкий — не родовая фамилия наша.
— Как, не родовая?
— Прозвище скорее, да и то с недавних пор. Батюшка его принял, как художеством заниматься начал.
— Ничего ты мне о том не говорил.
— К слову не пришлось. Из Носов мы. Дед мой Кирила Нос по прозвищу Орел. Батюшка стал называться Григорий Кириллович Нос-Левицкий. Для отличия. В роду у нас больше священнослужители были, а он, хоть сан иерейский и восприял, одним художеством занимается. Вот от родных мест прозвище и прибавил.
— Родных мест? Что-то в толк не возьму, Дмитрий Григорьевич — нешто Левицкие сами по себе не дворянский род?
— Есть, есть такие роды в Малороссии, по древности Носам не уступают. Да только батюшка о них не думал — написание у нас иное.
— Совсем ты меня запутал! Какое другое?
— Оно и верно, что ни к чему вам было на батюшкины сигнатуры под гравюрами внимание обращать. Да вот уж коли полюбопытствовали, сейчас вам гравюры-то эти покажу. Не расстаюсь с ними — с ними будто к батюшке да родным местам ближе. Гляньте-ка, милостивый государь, гляньте. Здесь стоит „Левьцкий“, здесь — „Левьцский“, а на документе по полной форме — „иерей Левецкий“.
— И документ-то поздний. Ты уж, Дмитрий Григорьевич, к тому времени только „Левицким“ писался.
— Больше для благозвучия. Да и граф Кирила Григорьевич на том стоял, неужто не помните?
— Вот теперь и впрямь припоминаю. Погоди, погоди, а прозвище-то такое откуда?
— Тут история длинная. Со времен государя Алексея Михайловича тянется.
— Ты же знаешь, до истории я великий охотник. Вон супруга твоя уж и чайком распорядилась, покуда чаевничать будем, расскажи.
— Да что, Григорий Николаевич, не мы одни к той истории причастны. Вся Малороссия, как в котле, кипела. Гетманы по левому днепровскому берегу всегда к Москве прилежали.
— Не под турок же было идти!
— Вот вы так говорите, а на Правобережье гетманы себе великой воли искали.
— Потому с турками и водились. Пуще всех, помнится, Петр Дорошенко отличался. Как только в мусульманство не впал.
— Нет, вере-то он отцовской не изменил, зато всех казаков по правому берегу под власть турок подвел.
— Так-так, это когда с Портою Оттоманской в 1669 году договор подписал.
— Кабы бумагой все обошлось! А на деле трех лет не прошло, как султан Мухаммед IV да еще с войском хана Крымского в Польшу вторгся. Тут уж какое спасение. Каменец от разу взяли, Львов осадили. Грабежам и насилиям конца не было. Дорошенко ничему не препятствовал. Сам лютовал, аж страх.
— Слава богу, московские войска всему конец положили. Сколько всего лет-то под Дорошенкой прошло?
— По счету, может, и мало — четыре. А по жизни человеческой как считать? Все лиха хлебнули. Только попам православным пуще всех досталось. Турки над ними так катовали: где калечили, где в раках топили, где в домах убивали. Вы говорите, московские войска порядок навели. Навести, может, и навели, да не сразу. Надо было, чтобы весь народ сам еще супротив мучителей встал. Так оно и вышло, что без малого десять лет мира на правом берегу никто не видал. Прадед, блаженной памяти иерей Василий Нос, с четырьмя малыми сыновьями еле жив остался. Сколько ни терпел, все выходило — бежать надо. И бежал. Недалеко, правда. На границе самой между Гетманщиной и Сечью пристроился.
— И когда это случилось?
— Еще при государе Федоре Алексеевиче. А в 1680 году достался прадеду приход церкви Архангела Михаила в местечке Маячка, у городка Кобеляки.
— Насколько помню, на самом юге Полтавщины? Вот только самого городка не помню.
— Да и помнить нечего. Каменных домов почти что нет — одни мазанки. Церквей две да ярмарка.
— Немного.
— Что уж — село простое. Хорошо, что земля прадеду досталась богатая. Под пашню. Еще лесок. Луг отличный.
— Вся семья там и осталась?
— Куда же деваться было? У иерея Василия приход унаследовал сын Василий-младший. За Василием-младшим священничествовал снова сын — Степан. О нем и рассказов больше в семье. Он приход принял в 1691-м, а в 1704-м скончался. Семья большая, а приход один. Вот братья друг друга на нем и сменяли.
— Как, сменяли? Не по очереди же служили?
— Нет, конечно. Недолговечными все они были. В молодых летах прибирались. Первым дядюшка Дорофей Степанович, за ним — Алексей Степанович. Дальше очередь дедушки настала. Там еще младший сын Лукьян Степанович оставался. Вот до него очередь не дошла. Дедушка Кирила Степанович и приход держал, и художеством занимался — иконы писал. У нас дома хранятся. Батюшке сам Бог повелел искусством заняться.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу