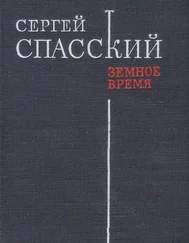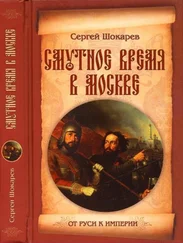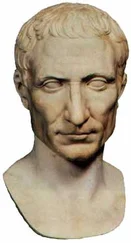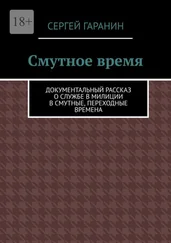Затем в сенат обратился сам Антоний. Он просил выделить и ему провинцию, а именно Македонию, несмотря на то что она также была закреплена за Брутом. Сенаторы не осмелились отказать, тем более что Македония оставалась теперь без войск и назначение туда Антония как будто не представляло особой опасности. Бруту же и Кассию взамен отнятых у них провинций решением сената были определены соответственно Крит и Киренаика.
Вскоре тайный смысл этого шага Антония стал ясен. В июне был пущен слух, что на Македонию собираются напасть (или уже напали!) геты. В связи с этим Антоний потребовал и настоял, чтобы намеченные к переброске в Сирию легионы были оставлены в Македонии. Но это было еще не все. Через некоторое время оказалось, что македонские легионы будут переправлены в Брундизий, и тогда, не обращая внимания на запуганный сенат, Марк Антоний добивается в комициях проведения нового закона о распределении провинций. По этому закону он получает в свое управление Цизальпинскую Галлию, к чему он, учитывая опыт Цезаря, видимо, давно уже стремился. Правда, здесь были свои сложности. Децим Брут, которому сенат раньше уже назначил эту провинцию, вовсе не собирался ее добровольно уступать. Ситуация была чревата самыми серьезными последствиями. Вот почему именно с этого момента многие в Риме, и в частности Цицерон, начали всерьез думать о возможности и даже неизбежности новой гражданской войны.
Положение самого Цицерона между тем осложнялось с каждым днем. И хотя Антоний соблюдал все правила вежливости и писал ему иногда изысканно любезные письма (например, с просьбой согласиться на возвращение из изгнания Секста Клодия), но истинный характер его отношения был для Цицерона ясен. Плутарх так пишет об Антонии: «Он видел, что Цицерон снова пользуется большим влиянием в государственных делах, он знал о его дружбе с Брутом и потому сильно тяготился присутствием этого человека. Вдобавок и прежде их разделяла взаимная неприязнь, вызванная полным несходством их жизненных правил».
Поэтому Цицерон все это время колеблется между намерением покинуть Италию и обычным для него желанием не расставаться с Римом. Сначала существовал проект поездки в Грецию, где находился его сын, слушавший курс лекций, и где должны были в текущем году праздноваться Олимпийские игры, затем после консультаций с друзьями возникло намерение отправиться в Сирию с Долабеллой в качестве его легата. Однако все это были лишь разговоры и предположения, и он проводит весну и лето 44 г. на юге Италии, переезжая из одного своего имения в другое.
И все же в июле он наконец решается отплыть из Италии. Отправившись морем вдоль берега (видимо, из своей помпейской усадьбы), он прибывает к концу месяца сначала в Вибон, а затем в Регий. Из Регия он переправляется в Сиракузы, где проводит всего лишь одну ночь, а затем вследствие неблагоприятного ветра снова попадает в район Регия. Здесь он остается на несколько дней (в начале августа) на вилле Публия Валерия и узнает некоторые важные новости из Рима: ситуация якобы изменилась, Антоний ищет контактов с сенатом и уже не претендует на Галлию, Брут и Кассий собираются вернуться в Рим, намечается созыв сената, отсутствие его, Цицерона, производит странное впечатление. Через несколько дней он получает письмо от Аттика, который также порицает его отсутствие, и это обстоятельство окончательно решает вопрос.
17 августа Цицерон снова в Велии. Здесь происходит встреча с Брутом. В результате обмена мнениями становится ясно, что положение в Риме все еще остается весьма напряженным, что Антоний отнюдь не склонен сдавать свои позиции и борьба с ним неизбежна. Вместе с тем Брут весьма одобряет решение Цицерона вернуться в Рим, ибо отъезд в Грецию в данной ситуации, да еще под предлогом посещения Олимпийских игр мог быть расценен лишь как предательство «республики».
В настроении Цицерона происходит явный перелом. Вместо недавних раздумий и колебаний, вместо сознательно проводимой политики абсентеизма он вдруг в эти дни становится полон энергии и мужества, как в свои лучшие времена. Ему предстоит борьба, и он не собирается ее избегать. Он возвращается в Рим с открытым забралом, отнюдь не убаюкивая себя возможностью компромисса или примирения, — ситуация, конечно, отличалась от кануна гражданской войны 49 г., да и его собственная роль была теперь совершенно иной, — и потому он прямо идет навстречу тяжелым испытаниям, будучи психологически и морально готов начать, по его же собственному выражению, «словесную войну», причем ничуть не сомневается в том, что подобная война может в любой момент из области слов перейти в область действий.
Читать дальше