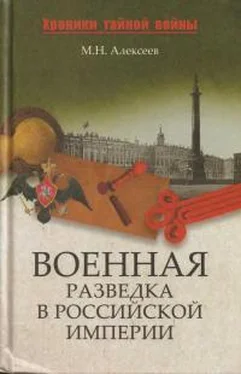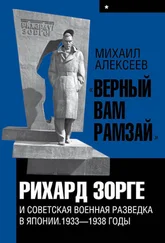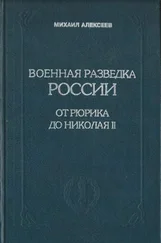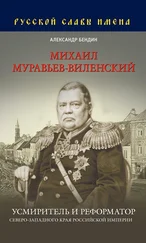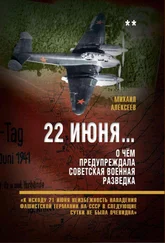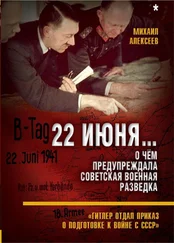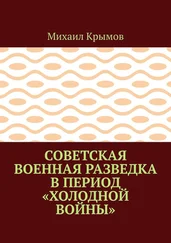Деятельные и энергичные Церковский и Начович. стали основными помощниками Паренсова в организации сети информаторов.
В первых числах января 1787 г. Начович обрадовал Паренсова приятным известием — в Журжеве (на румынской стороне) он встретил своего прежнего приятеля, болгарина, служившего в то время на товарной станции Рущукско-Варненской железной дороги. Сейчас же был обговорен способ передачи получаемых сведений на железной дороге через другого болгарина, жившего постоянно в Рущуке.
Так Паренсовым был сделан первый шаг по пути к созданию связи с агентурой на турецкой стороне Болгарии. Всего лишь первый. В своих воспоминаниях Па-рейсов писал: «Я… сделал опыты, давшие прекрасные результаты. Так в Рущуке Карвонидес доставлял мне еженедельно, а иногда и по нескольку раз в неделю, донесения… о прибытии и уходе войск, орудий, разного военного материала, о постройке и вооружении фортов и о флоте… В там же Рущуке помощник на - пальника товарной станции рущукско-варненской железной дороги, болгарин… самым аккуратным образом сообщал мне через Начовича, о прибытии и отправке по железной дороге войск, артиллерии и грузов… точность была замечательная…» (Паренсов П.Д. Указ. соч. С. 132).
Следует оговориться, что Карвонидес был русским дипломатом и с началом боевых действий в лучшем случае был бы выслан в составе консульства за пределы Турции, а в худшем… Поэтому его никак нельзя было включать в состав постоянной агентуры ни в мирное, ни в военное время. Не говоря уже о консуле Кожевникове, который регулярно передавал разведывательные сведения, в том числе и Паренсову, правда, не всегда до него доходившие. Зачем было создавать в Рущуке разведывательную сеть, по сути, на базе уже имевшейся?!
Паренсов пришел к пониманию необходимости создать с помощью известных болгар сети постоянных агентов из числа местных жителей в местах, представлявших интерес для Полевого штаба. Оставалось только подыскать лиц, бравших на себя обязанности доставления сведений, «так сказать курьеров и почтальонов». «Причем как для безопасности, так и для скорейшего получения известий, таковые не шли бы прямо изнутри края» к Паренсову, а передавались постепенно из города в город по пути к полковнику, сосредоточиваясь в Тульче, Валькове, Силистрии, Рущуке, Систове, Никополе и Видине. Проблема «курьеров» и «почтальонов» была совсем не проще проблем, с которыми сталкивались «агенты-ходоки» при пересечении Дуная в обе стороны.
Как бы то ни было, проект организации разведки театра военных действий посредством четко организованной сети постоянной агентуры, с указанием желательных мест их проживания, был составлен и подан по команде. Все про* странство между Балканами и Дунаем от Видина до Силистрии предлагалось Паренсовым поделить на четыре округа: Видинский, Систовский, Рущукский и Силистрийский.
В каждом из этих округов должен был быть поставлен агент, на которого возлагалась бы задача «собирать самые полные и точные сведения относительно всего, касающегося турецких войск». «Их движений и, буде возможно, то и о на - строении мусульманского и христианского населения во вверенном ему округе».
Собранные сведения должны были быть, по мнению автора , «доставлены, по возможности, из Видинского округа в Калафат, из Рущукского в Журжево, из Силистрийского в Калараш (или вблизи этих пунктов) и передаваться в Главный штаб ближайшего к названным пунктам корпуса наших войск». Следует оговориться, что Калафат, Журжево и Калараш находились на румынской территории.
Агенты, по мнению Паренсова, должны были «быть выбраны из людей наименее выдающихся и способных возбудить подозрение турок, по преимуществу из мелких торговцев или торговых комиссионеров» (РГВИА. ВУА. Ф. 7425. Ч. 1. Л. 17–18). Достаточно странное и необъяснимое требование к агентам, заведомо принижавшее его разведывательные возможности. Или других просто не было, вернее сказать, труднее было подыскать. Агент в свою очередь или сам, или через доверенное лицо, на которое он вполне мог бы положиться, приискивал «охотников переправиться через Дунай». Причем один и тот же охотник не должен был быть «употреблен» для этой цели больше одного раза.
Сам «охотник» не должен был знать содержание исполняемого им поручения. Ему передавалась заклеенная или запечатанная бумага, в которой содержались требуемые сведения с поручением доставить в штаб ближайшего корпуса. Устная передача сведений, считал Паренсов, не допустима.
Читать дальше