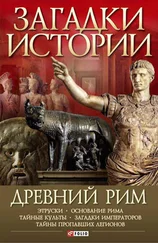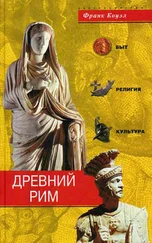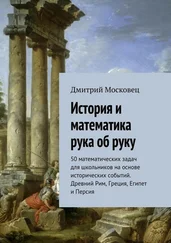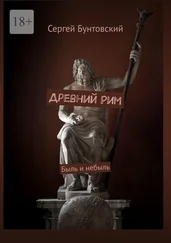В западноевропейской историографии эта точка зрения шла от Моммзена и Друмана, у нас она одно время была общепринятой (даже в общих курсах и учебных пособиях), но, пожалуй, наиболее ярко проявилась в работах В. Н. Дьякова. Тем не менее подобная трактовка вопроса есть не что иное, как перенесение современных терминов и представлений на историю Рима, т. е., говоря иными словами, модернизация этой истории.
Если попытаться посмотреть на интересующие нас понятия глазами самих древних — а сделать это возможно, ибо у нас есть развернутое определение Цицерона, — то мы легко убедимся в том, что нет никаких оснований считать оптиматов и популяров политическими партиями. Цицерон говорит: «В нашем государстве всегда было два рода людей, которые стремились к государственной деятельности и к выдающейся роли в государстве: одни из них хотели считаться и быть популярами, другие — оптиматами. Те, действия и высказывания которых приятны толпе, — популяры, те же, чьи действия и намерения встречали одобрение у каждого достойного человека, — оптиматы».
Определение этим не исчерпывается. Цицерон здесь же очень подробно перечисляет, кого именно следует относить к оптиматам. «Число оптиматов, — говорит он, — неизмеримо: это руководители государственного совета, это те, кто следует их образу действий, это люди из важнейших сословий, которым открыт доступ в курию, это жители муниципиев и сельское население, это дельцы, это также и вольноотпущенники». Короче говоря, это все те, «кто не наносит вреда, не бесчестен по натуре, не необуздан и обладает нерасстроенным состоянием».
Из этого определения, на наш взгляд, с полной ясностью вытекает, что оптиматы никоим образом не являются «партией» нобилитета, да и вообще не должны рассматриваться в качестве какой–либо партии или определенной политической группировки. Более того, оптиматы — понятие межсословное. Говоря об оптиматах, Цицерон, как мы только что могли убедиться, имеет в виду достаточно широкие социальные слои: от нобиля до отпущенника. Оптиматы — это благонамеренные и зажиточные граждане, независимо от того, к какому сословию они принадлежат.
Что касается определения понятия «популяры», то, как показывает анализ употребления этого термина в древности, у нас нет и в данном случае никаких оснований говорить о политической партии, да еще оппозиционной по отношению к «партии» оптиматов. Популяры это — отдельные политические деятели, выступающие в «интересах народа», считающие, что управлять государством должен не сенат, но народное собрание, что следует проводить земельные и хлебные законы, основывать колонии и т. п.
Таким образом, ни оптиматы, ни популяры не могут рассматриваться как политические партии (особенно в современном смысле слова). Но это отнюдь не означает, что в Риме не существовало демократических деятелей и демократического движения. Широкие слои сельского, а затем и городского плебса были тем огромным резервуаром, той питательной средой, откуда римская демократия черпала свои силы. Правда, состав римских демократических слоев, особенно в эпоху поздней республики, был весьма пестрым и даже внутренне противоречивым, но это уже другой, совершенно особый вопрос. Популярами же следует считать тех политических деятелей (кстати, они часто были выходцами из самых высших слоев римского общества), которые в своей борьбе против сенатской олигархии пытались опереться на эти широкие, но, как показал опыт, малоорганизованные слои населения.
Поэтому, говоря о Клодии и его движении, мы имеем, как нам кажется, достаточные основания считать это движение демократическим, а самого Клодия — одним из вождей римской демократии, одним из видных популяров. Рассмотрим в заключение деятельность Клодия по истечении срока его трибунских полномочий, поскольку возглавленное им движение, безусловно, выходило за хронологические рамки самого трибуната.
Борьба Клодия с сенатом и просенатскими кругами продолжалась и в последующие годы. В 57 г. она развертывалась главным образом вокруг вопроса об изгнании Цицерона. Клодию был противопоставлен народный трибун Тит Анний Милон. Он, по примеру Клодия, стал создавать вооруженные отряды, используя их в дальнейшем для столкновений и борьбы с отрядами Клодия.
В том же 57 г. дело зашло так далеко, что в стычках на форуме были ранены народные трибуны, а брат Цицерона Квинт ускользнул от гибели, спрятавшись среди трупов и притворившись мертвым. Как уверяет Плутарх, народ стал охладевать к Клодию, а Помпей пожалел о том, что «бросил Цицерона на произвол судьбы». Поэтому Помпей решил использовать Милона и его отряды, и под их давлением в августе 57 г. был принят в народном собрании закон, разрешающий изгнаннику вернуться в Рим. «Сенат, — говорит Плутарх, — как бы соревнуясь с народом, выразил признательность городам, которые оказывали уважение и услуги Цицерону во время изгнания, и распорядился за счет казны отстроить его дом и виллы, разрушенные Клодием».
Читать дальше