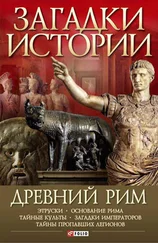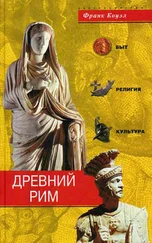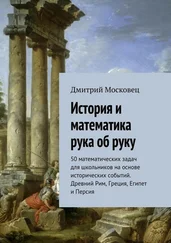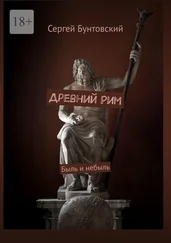Таковы были попытки марксистской (как считалось в то время!) интерпретации римской истории с позиций «революции рабов». Наиболее парадоксальным в этих рассуждениях оказывалось то, что они находились в явном противоречии с высказываниями классиков марксизма–ленинизма относительно роли рабов. Мы имеем в виду известное указание К. Маркса о том, что классовая борьба в Риме происходила внутри привилегированного меньшинства, а рабы были лишь «пассивным пьедесталом» этой борьбы, и развитие данной мысли В. И. Лениным в его лекции «О государстве».
Справедливость требует, однако, отметить, что уже во «Всемирной истории» восстание Спартака подвергалось более объективной, а потому имеющей более серьезные научные основания оценке. Было отмечено значение восстания для дальнейшего хода римской истории, причем как в его позитивном, так и в негативном аспекте. Например, говорилось, что, «с одной стороны, это восстание показало, что рабы не были еще в состоянии освободиться даже путем наивысшего напряжения сил». Не могли они также выработать четкую революционную программу и стремились не к отмене рабства вообще, но лишь к личному освобождению. С другой стороны, восстание наглядно доказало крайнее обострение классовых противоречий в римском обществе.
Каков же должен быть общий вывод относительно исторического значения движений рабов, и в частности восстания под руководством Спартака?
Само собой разумеется, что тезис о революции рабов не может выдержать серьезной критики. Что касается косвенно вытекающих из этого тезиса рассуждений о рабах как о классе–гегемоне, о союзе с беднейшим крестьянством, то все это не что иное, как явная и ничем не оправданная модернизация. Вопрос о классе–гегемоне, о классах ведущих и ведомых может встать, на наш взгляд, только в определенной исторической обстановке и только на соответствующем уровне развития классовой борьбы.
Поэтому не следует, как это делалось раньше под гипнозом формулы о революции рабов, переоценивать революционность и политическую сознательность рабов как класса или, например, считать, что переход от республики к империи чуть ли не целиком обусловлен восстанием Спартака.
Если отказаться от этих предвзятых взглядов, то историческая роль рабов и значение их борьбы отнюдь не будут принижены. Тем более, что следует сохранять определенное «равновесие»: отрицание революции рабов никак не означает (да и не должно означать!) отрицания всякой революционности рабов и их борьбы.
Мы уже говорили несколько раньше о различных формах этой борьбы. Бесспорно, что высшей формой были восстания рабов. Они носили всегда характер стихийных революционных выступлений. Подобное определение приложимо в равной степени как к ранним, эпизодическим выступлениям рабов, так и к сицилийским восстаниям, и, наконец, к восстанию Спартака. Стихийный характер всех этих движений — явление вполне закономерное, как раз обусловленное уровнем развития классовой, социально–политической борьбы в античном обществе.
Отказываясь от тезиса о революции рабов, мы, тем не менее, полностью согласны с советскими исследователями, которые отмечали в свое время революционный характер борьбы рабов. Не следует только переоценивать классово–сознательную сторону этой борьбы. Поэтому нет серьезных оснований говорить о четкой и далеко идущей в смысле социальных требований «программе» рабов. История восстания Спартака, со всеми его конкретными особенностями, противоречиями и даже «расколами», достаточно ярко свидетельствует об отсутствии такой программы, как, впрочем, и об общем стихийном характере движения.
Следует также пересмотреть довольно широко распространенную точку зрения, согласно которой господствующий класс в результате выступлений рабов, и главным образом самого восстания Спартака, консолидируется с целью более решительного подавления рабов и переходит к формам «военной диктатуры», т. е., говоря иными словами, восстание Спартака оказывается основной причиной перехода от республики к империи.
Подобная концепция представляется нам совершенно неприемлемой прежде всего потому, что она не может быть доказана без явных натяжек и насилия над историческими фактами. Кроме того, в этой концепции существует некое внутреннее противоречие. Восстание Спартака — как, впрочем, и другие социальные движения — не могло привести к консолидации рабовладельцев, если под этой консолидацией понимать установление политической формы Римской империи, по той простой причине, что самый «переход» от республики к империи связан не с консолидацией господствующего класса, а, напротив, — с его дальнейшей дифференциацией и с захватом политической власти новыми фракциями этого класса. Причем новые фракции были явно враждебны (во всяком случае, в период борьбы за власть!) старым группировкам. Все это не означает, что нельзя вообще говорить о консолидации господствующего класса.
Читать дальше