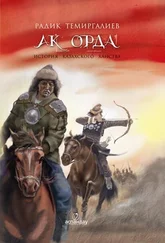Правительство при хане Ядыгаре составилось из следующих лиц: Кул-Шериф, кади, князь Чапкун Отучев, кн. Алике Нарыков, ногайский князь Зениет, сибирский князь Кебек и кн. Дервиш.
С прибытием хана в Казани царило бодрое настроение. Казанцам удалось совершить удачное нападение на главную камскую заставу, и русские были серьезно встревожены постигавшими их неудачами. В гарнизоне Свияжска дисциплина совершенно упала, и в войске происходила деморализация. Новопостроенный город имел вид военного лагеря, но успел наполниться маркитантами, поставщиками на армию и дельцами всякого рода: здесь было "купцов бесчисленное множество, с различными живностями и со многими товары, приплыша, идеже бяше всего достаток, чего бы душа восхотела". [226] Кн. Курбский "История князя великого Московского", с. 15.
В городе было много различных товаров, но не было хлеба, и армия голодала. Свияжск был окутан нездоровою атмосферою военного городка, наполненного солдатами, торговцами и освобожденными из Казани пленными мужчинами и женщинами, которые не имели определенных занятий, получали пайки и слонялись без дела, в ожидании отправки на родину. В Москве не на шутку встревожились и решили поднять расшатавшуюся дисциплину. Правительство митрополита Макария решило создать моральный подъем и очистить атмосферу призывом к религиозному чувству. С этою целью оно обратилось к тем самым мерам, которые суеверному автору "Казанского Летописца", составителю официальных записей "Царственной Книги" и даже таким людям, как кн. А. М. Курбскому, чудились в стане казанцев, а именно — к магическим действиям. В Москве по [148]случаю неудач были организованы торжественные процессии — "совершают молебные службы на много время, и святят воду со всех мощей и крестов"… Чудотворную воду в конце мая доставили из Москвы в Свияжск, и вместе с тем было опубликовано послание митрополита к Свияжскому гарнизону, составленное в сильных и трогательных выражениях. Послание произвело на солдат большое впечатление, войска подтянулись, азартные игры были запрещены, пьянство и разврат ослабели, а с наступлением лета и с подвозом припасов прекратилась цинга.
Война за независимость. Падение ханства.Русское правительство стало готовиться к наступательным военным действиям в мае, царь же выехал из Москвы в армию в середине июня. Крымское и турецкое правительства не остались безучастными к судьбе казанского народа и оказали поддержку казанцам, совершив нападение на Россию, хотя эта поддержка и не дала больших результатов. В тот самый момент, когда русская армия выступила в поход против Казани, хан Даулет с крымским войском и турецкими янычарами неожиданно для русских вторгся в Россию и быстро дошел до г. Тулы. Русские принуждены были прежде, чем начать поход против Казани, двинуть свои главные силы — правый фланг, авангард и половину дарской гвардии против крымцев и турок. Расчет хана Даулета не удался: он полагал, что русское войско успело уже продвинуться на восток, и что путь на Москву свободен. В виду приближения значительных русских сил, осада Тулы была прекращена и хан Даулет отступил. Вельяминов-Зернов говорит об этом походе следующее: "Война эта, начатая крымцами с участием и турок (янычары их находились в ханском войске) в ту минуту, когда Иван собирался идти на Казань, была предпринята с прямою целью задержать государя и подать руку помощи Казани. Говорили это даже пленные крымцы, попавшиеся в ту пору в руки русских. Вообще следует заметить, что видимое тогда расширение русской власти сильно тревожило все окрестные мусульманские земли. В особенности были озабочены Турция и Крым. В памятниках, касающихся эпохи, близкой к времени и падения Казани, встречаем частые известия как о сношениях Турции и Крыма на счет России, так и о посольствах, которые оба государства эти снаряжали к ногайцам и даже в Астрахань, с целью поднять их против нас и убедить в [149]необходимости стать всем мусульманам заодно, чтобы противодействовать возрастающей силе России". [227] Вельяминов-Зернов, I, 372–373.
После отступления хана Даулета прерванный поход русских против Казани был возобновлен. Войско было напутствовано митрополитом Макарием, который трактовал эту завоевательную войну, как святое, божие дело, направленное к обращению «безбожных» и «поганых» мусульман в христианство и к освобождению пленников из неволи, [228] В официальном источнике — "Царственной Книге" приведена речь царя, произнесенная во время смотра перед походом; в этой речи царь объяснил солдатам: "Агаряне (мусульмане), они бога не имеют… мы же имеем владыку своего господа бога; аще за имя его постражем, да венцы мученически увяземся", (с. 226).
воинов же, павших в этом священном походе — как мучеников за веру. Русскому правительству стоило огромных усилий организовать этот грандиозный поход, и дело не обошлось без заминок: новгородцы заявили, что они отказываются идти в поход, так как им, находящимся в походе с весны и бывшим в боях, невозможно быть так долго в пути и стоять под Казанью. Правительство заявило, что кто не желает участвовать в походе, тот может вернуться обратно, но что участники похода будут наделены поместьями под Казанью ("кто похощет с государем пойти, тех государь хощет жаловати и под Казанию перекормити") и в заключение составило список, кто сколько насчитывает земельной задолженности за государством. [229] Царств. Книга, с. 235.
Мера подействовала, и все новгородские дети боярские, мелкопоместные дворяне изъявили едийогласно желание идти в поход. Правительство осуществляло программу И. Пересветова относительно "подрайской землицы, вельми угодной" для мелких дворян.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
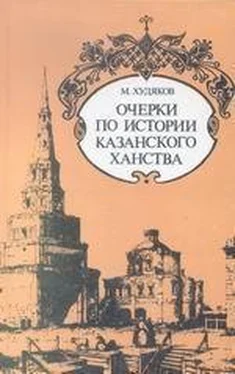




![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/416279/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii-thumb.webp)
![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга I. Чума добактериологического периода [без иллюстраций]](/books/416280/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-i-ch-thumb.webp)