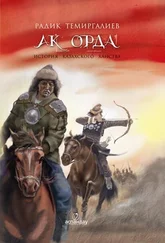Шах-Али, сосланный на Белоозеро, находился под арестом около трех лет. Вельяминов-Зернов справедливо отметил: "Эпоха эта была самая тяжелая в жизни Шах-Алия. Если не ему самому, то его татарам, которые были заключены с ним в опалу, привелось вытерпеть [109]много горя". [162] Вел. — Зерн. I, 282.
Улучшение в судьбу Шах-Али было внесено переменой на казанском престоле с убийством его брата Джан-Али. Шах-Али оказался единственным кандидатом со стороны партии, сочувствовавшей союзу с Россией, Мысль об освобождении его из-под ареста подали казанские эмигранты, приехавшие тогда в Москву; они заявили — "Государь бы нас пожаловал, Шигалею бы царю гнев свой положил и к себе бы ему велел на Москву быти; и коли будет Шигалей у великого государя на Москве, и мы совокупимся с своими советники, кои в Казани, и тому царю крымскому в Казани не быти". [163] Ц.К., с. 52.
Правительство Елены Глинской нашло это целесообразным, и по постановлению боярской думы Шах-Али был освобожден в декабре 1535 года. В Москве состоялся официальный прием хана и царицы Фатимы великим князем и регентшей, но далее дело не двинулось, так как в Москву прибыло посольство от князя Сафы и заключило договор с русским правительством. Шах-Али получил в управление свой прежний Касимовский удел. В качестве претендента на казанский престол он участвовал в русских походах против Казани: в 1537 году он был в штабе русской армии во Владимире, в 1540 году действовал против казанцев на Муромском направлении, в 1541 году был вновь на сборном пункте русских войск во Владимире. В 1543 году Шах-Али владел Коширой (может быть, вместе с Касимовым). При вторичном вступлении на казанский престол Шах-Али был в возрасте 35 лет.
"Казанский Летописец" сообщает интересные сведения об условиях, заключенных казанским правительством с Шах-Али при избрании его на престол в 1546 году: "Поиде с казанскими воеводы на царство… не просто же, но на вере и роте", т. е. по договору и присяге. Условия перечислены следующие: 1) "да не убиен будет от них", 2) "тако же они от него разпленени да не будут, никоя же вины прошлыя не мстити", 3) "да идет к ним не в велицей силе". [164] П.С.Р.Л. XIX, 51.
Таким образом, хан не должен был вводить с собою в Казань иностранного гарнизона и обязывался не мстить и не преследовать за прежние вины, а казанцы гарантировали ему личную безопасность. В общем, условия сводились к взаимному обеспечению личной неприкосновенности. Заключение подобного договора представляется весьма вероятным . [110]
Составитель "Казанского Летописца" довольно отчетливо характеризует вновь наступившее русское засилье в Казани, когда сообщает, что хан двинулся в свою столицу, не взявши с собою ни большого войска, ни артиллерии, ни русских стрельцов: "не взя с собою царь ни силы многая, ни стенобитного наряду, ни огненных стрельцов" — он взял с собою только 3000 касимовских татар и 1000 русских солдат под начальством воеводы, которые должны были охранять его особу и составлять ханскую гвардию; посол великого князя должен был совершить церемонию возведения на престол. Разумеется, эта свита являлась прямым нарушением только что заключенного договора, по которому Шах-Али обязался "да идет к ним не в велицей силе", и летописец разочарованно сообщает, что вместо 4-тысячного войска- казанское правительство позволило хану ввести в столицу лишь 100 касимовских татар. Русского воеводу, начальника ханской гвардии, совсем не пустили в Казань, а послу отвели квартиру не в крепости, а в посаде, хотя оставили его на свободе — "не брежаху: да како хощет", [165] П.С.Р.Л. XIX, 286.
однако, ездить к хану ему было запрещено. Очевидно, правительство сеида Беюргана, князя Кадыша и Чуры Нарыкова, представлявшее русскую партию, не утратило своего национального самосознания и, держа русских в известных границах, смотрело на союз с Москвою лишь как на неизбежную необходимость, но не питало какой-либо сердечной привязанности к соседнему государству.
Хан прибыл в Казань по полой воде, и церемония возведения на престол была совершена 13 июня в присутствии русских послов. С официальным извещением о воцарении хана в Москву был командирован мурза Чапкун Отучев, затем к русскому правительству было отправлено посольство в составе оглана Аллах-Берды, князя Тевекеля и бакши — сына муллы Агиша (Агиш-молла-заде).
Автор "Казанского Летописца", недовольный правительством сеида Беюргана за то, что оно не пустило в Казань русского гарнизона, постарался изобразить Шах-Али в положении пленника в каком-то стане разбойников: "И бысть тогда в Казани царь един, в лето 7054, не яко царь, но яко пленник изыман и крепко брегом, и не испущаху его из града гуляти со своими его никакоже… и в царское место власти смиряющеся пред ними, и повиновашеся, и ни в чем же им пререковаше, и славны пиры на них творяще по вся дни, и дарове им подаваше, не царствовати уже хотя, но тем некако от смерти горький [111]избыти". [166] П.С.Р.Л. XIX, 287.
Рассказ полон наивных подробностей: "Они же царскую честь и дары и смирение ни во что же вменяху, но и сосуды его сребряные и златые, расставленные пред ними на столах, разграбляху, сердце его раздражающе. злии, даром, что им речет и они вскочивше ту и рассекут мечи, аки сыроядцы звери, его овча или козлы расторгнут". [167] П.С.Р.Л. XIX, 287.
Религиозный летописец не отказал себе в удовольствии сочинить даже следующий вымысел: "И веден се царь, от казанцев неизбытною бедою одержима, и тужаще, и плакаше, и таи бога небесного моляша по вере своей, но и русских святых на помочь призываше , и мысляше како свободитися от напрасныя смерти". [168] П.С.Р.Л. XIX, 288.
В заключение идет сентенция: "Но царская смерть без ведома божия не бывает… никтоже может от человек убити до уреченного его дни". [169] П.С.Р.Л. XIX, 288.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
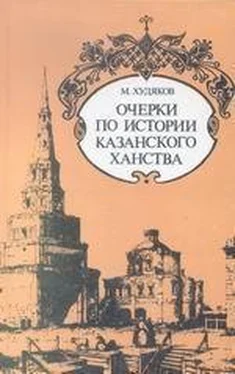




![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/416279/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii-thumb.webp)
![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга I. Чума добактериологического периода [без иллюстраций]](/books/416280/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-i-ch-thumb.webp)