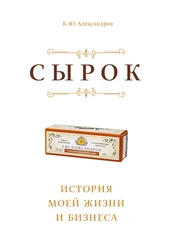Тут мне необходимо переехать в деревню, чтобы вы поняли: что — почем? В городе это проявляется не так отчетливо. В деревне всегда знают практически твердую цену всему, за исключением городской экзотики: керосин, огурцы, кирзовые сапоги и так далее, все то, что часто покупается как спички. Вспахать огород — бутылка водки, три мешка картошки — сажень дров, бутылка водки — пять ведер молока, полбарана или три петуха. И так далее до бесконечности, включая корзины, горшки и рыбачьи удочки из талины и конского волоса. Поэтому в глухих деревнях денег вообще не надо: все можно обменять на все, притом самым честным образом. И само собой разумеется, всеобщим эквивалентом становится бутылка водки, на бутылки все очень хорошо считается, ибо и сама бутылка легко делится на троих.
А теперь попробуйте запросить за вспашку огорода не одну бутылку, а — две. Вас же засмеют, но могут и побить, ибо цены всем известны и неприкосновенны. Тут даже инфляция идет гораздо медленнее, чем в государстве и узнают ее только по водке, так как все остальное покупается не килограммами, а — мешками, примерно два раза в год.
Главный вывод из всего этого — торговая прибыль в узком кругу в принципе невозможна. Разве что на понюх табаку. И именно так живут все «примитивные» народы. Дарят друг другу всякую всячину и отдаривают. Постепенно вырабатывается «всеобщий эквивалент» наподобие водки в деревне, но только этот эквивалент всегда и повсюду — нужная вещь, опять же как водка, по современному — вещь повседневного спроса. И ни в коем случае не золото, ибо удачный камень для топора, хорошо обработанная кость — дороже. Не говоря уже о грибном, ягодном, рыбном месте, скрываемом от всех и равноценно обмениваемом на кедровое, глухариное и так далее места. Но я, кажется, уже перешел к междеревенским торговым делам, межплеменным.
При любой степени тесноты народа, например, кавказского по сравнению с сибирским, цены от деревни к деревне, от племени к племени на все и вся изменяются очень незначительно, постепенно. И никто этого даже не замечает, ибо никому не приходит в голову пройти подряд три деревни — незачем. Да и опасно, шею могут накостылять. Ведь везде одинаковое мнение, что незачем, а если незачем, но пришел, значит на уме — нехорошее. Поэтому тому, кто решил торговать, получая большую прибыль, надо сильно превозмочь себя, выйти за рамки обычая. А зачем выходить, спрашивается? Ведь никто не знает, что через три — десять деревень цены дарения и отдаривания другие — на порядки. Например, на берегу моря вам могут за курицу не пожалеть пол — лодки рыбы. Но как опять об этом узнать?
Надо просто так оголодать, чтоб превозмочь первородный стыд, который есть даже у собак и кошек, и пойти побираться. Или воровать как цыгане, ибо ворожба — это только прикрытие. Отчего я уже не раз написал, что цыгане кровная родня евреев, простите, торгового племени. Но я забежал вперед.
Вконец изголодавшийся человек — жалок, поэтому к нему не возникает синдрома неприятия чужака, о котором я говорил немного выше. К нему, наоборот, возникает жалость и желание помочь. Это видно даже по льву, сыто развалившемуся на травке, и не препятствующему не только детям своим, но даже и шакалам поедать остатки его трапезы. Поэтому такой человек беспрепятственно может пройти даже не три деревни, а — тридцать. И не заметить возрастающего благополучия деревень на своем пути — не может, ибо он жив именно благодаря возрастающему благополучию. Вот тут — то он и разницу в ценах на все и вся приметит. Но надо еще принцип возрастающего благополучия объяснить. Иначе, получится, что прибыльную торговлю изобрести может каждое племя. Примерно как лук со стрелами, колесо и глиняный горшок.
Возьмем хоть тайгу, хоть прерию, хоть летом — болотный, зимой — снежный край, называемый тундрой. И даже Кавказские или иные горы. Каждый такой край, во — первых, обширен, это минимум многие сотни километров. Во — вторых, природные катаклизмы развиваются в таких краях разом на всю их площадь. Засуха, саранча, непрекращающиеся дожди. Как голодало все Поволжье в неурожайные годы, вы и без меня знаете, а вот почему иногда голодают в благодатной сибирской тайге шорцы — не знаете.
Иногда случается недород кедровых шишек в Кузбассе, тогда как в Красноярской тайге — ветки от них гнутся. И все белки, бурундуки, исключая больных, еще когда кедр только отцветает, переселяются именно туда, примерно тысячи на полторы километров. Удивленные соболи следуют за ними. За соболями — рыси и так далее. Все, Кемеровско — Алтайская тайга опустела. В такие времена даже рыба в речках куда — то пропадает. И шорцы остаются наедине с собой и перестают размножаться, питаясь чем бог пошлет. Заметьте, на территории в полторы тысячи верст ни у кого ничего не выпросишь Христа ради. Весь ареал переживает зиму как будто это одна большая тюрьма под эгидой ГУЛага. Вот поэтому — то нам и надо поискать такое место, где контраст — на расстоянии не полутора тысяч километров, а совсем рядом, лишь под горку надо спуститься.
Читать дальше