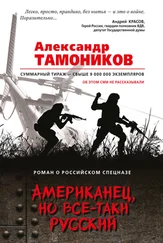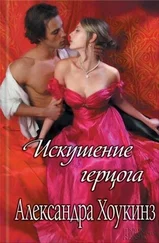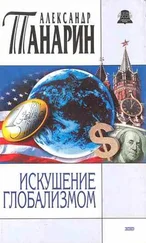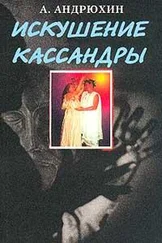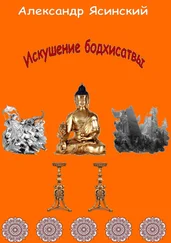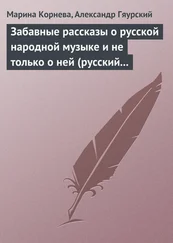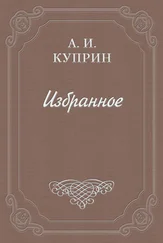Ссылаясь на отсутствие у него необходимых средств, великий князь требовал платить больше (1000 рублей), но из кассы Совета в Киле. Но что-то его смущало, он настойчиво предупреждал: «И особенно прошу Ваше Высокопревосходительство не говорить об этом в присутствии господина С. и других, дабы не сделать несчастным этого беднягу, который безупречно, без единого промаха служит мне четыре года». Упомянутый здесь «господин С.» — скорее всего, Каспар Сальдерн, видный гольштейнский деятель, с которым у Петра с 1746 г. сложились неприязненные отношения. (Сальдерн пользовался расположением Фридриха II, а затем и Екатерины II, которую, узнав ближе, впоследствии возненавидел). В заключительных строках великий князь снова подчеркивал: «…чтобы никто не мог даже догадаться об этом письме».
Какими бы мотивами не объяснялась общая тональность письма (это, скорее, не распоряжение, а почти дружеская просьба), стремление оказать милость без того, чтобы кого-то обидеть или поставить в неловкое положение, — эта чисто человеческая черта неоднократно проявлялась в поведении Петра Федоровича и позднее. О ней свидетельствовали, например, многие его действия на посту главнокомандующего Кадетским сухопутным корпусом.
Мы уже видели, с каким вниманием отнесся он к обеспечению быта и лечения учащихся. Когда выяснилось, что один из них, Николай Наумов, страдает падучей и потому не сможет служить в дальнейшем ни по военному, ни по гражданскому ведомству, Петр Федорович ходатайствовал в 1759 г. перед Сенатом: «…при той отставке за обучение им наук и доброе поведение наградить рангом армейского прапорщика» [24, № 101, л. 10]. Разумеется в этих случаях речь шла о дворянской молодежи — для выходцев из других сословий двери Кадетского корпуса были закрыты: таков был его изначальный статус. Но в своем общении Петр Федорович сословных различий не делал. Можно сказать, что он даже гордился, бравировал этим.
В одном из писем 1762 г. Фридриху II он вспоминал слова солдат Преображенского полка, желавших ему, тогда еще наследнику престола, скорее стать императором: «Дай бог, чтобы Вы скорее были нашим государем, чтобы нам не быть под владычеством женщины». Об этом, по его признанию, он слышал «много раз» [122, с. 14]. А это означало, что вольные разговоры с нижними чинами, в том числе и на весьма щекотливые политические темы, происходили у него неоднократно. Непринужденную манеру общения Петр Федорович сохранил и по вступлении на престол. В «Записках» Я. Я. Штелина, подготовленных к публикации К. В. Малиновским, сообщалось, в частности, о таком эпизоде. Приехав в Петропавловскую крепость, чтобы лично проверить подготовку к торжественному погребению Елизаветы Петровны, император пожелал заодно осмотреть там же расположенный Петербургский монетный двор. «И когда, — писал Штелин, — в присутствии его величества отчеканили первый рубль и поднесли ему, этот монарх сказал, рассматривая свой погрудный портрет: «Ах, как ты красив! Впредь мы прикажем представлять тебя еще красивее». Успев за недолгий срок своего царствования посетить ряд промышленных заведений Петербурга, Петр Федорович охотно общался с окружавшими его людьми. Так, побывав 2 апреля на Шпалерной фабрике, он зашел в Летний сад, а оттуда пешком направился во дворец, по пути заглянув к своему бывшему камердинеру Петру Герасимову [38, с. 14].

Изображение Петра III на лицевой стороне серебряного рубля, отчеканенного в начале 1762 г. на Петербургском монетном дворе. Из собрания Гос. Эрмитажа.
Вскоре после этого устным указом от 25 мая Петр III разрешил в Летнем саду и «на лугу», т. е. на Марсовом поле, «гулять всякого звания людям каждой день до десяти часов вечера в пристойном, а не подлом платье» [24, оп. 2, № 52, л. 12]. И хотя ценз на одежду сохранял фактическое сословное ограничение, указ способствовал расширению круга тех, кто мог посещать прежде запретные для них места. Точно так же император часто ходил по городу один, без охраны, о чем не без гордости сообщал в одном из писем Фридриху II. Необычность и простота поведения царя, к чему население не привыкло, вызывали толки в народе и способствовали популярности его личности.
В свете этого по-иному воспринимались и подписанные Петром III законодательные акты, среди которых, как мы подчеркивали, было немало установлений, непосредственно затрагивавших интересы непривилегированных классов и слоев. Уже указы, запрещавшие преследования за веру, нашли живой отклик у старообрядцев, а ведь подавляющую массу их (наряду с купечеством) составляло крестьянство. Те и другие, при всех оговорках февральского манифеста, были удовлетворены отменой страшного «слова и дела». Привлекательность имели и такие, более конкретные меры, как уменьшение цены на соль, разрешение крестьянам доставлять в Москву продукты без предъявления документов, дабы, как объяснилось в указе 21 февраля, крестьяне и купцы не терпели убытков [127, т. 15, № 11446]. В указе о коммерции 28 марта 1762 г. специально подчеркивалась необходимость, «чтобы всякий промысел и ремесло сделать прибыточным».
Читать дальше
![Александр Мыльников Искушение чудом [«Русский принц», его прототипы и двойники-самозванцы] обложка книги](/books/28527/aleksandr-mylnikov-iskushenie-chudom-russkij-princ-ego-prototipy-i-dvojniki-samozvancy-cover.webp)