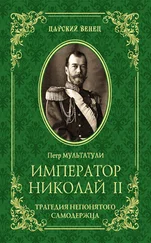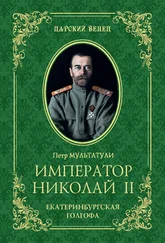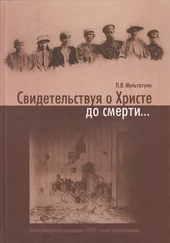Наступление остановилось. Опомнившийся противник 6 июля нанес ответный удар. Командовавший немцами генерал Винклер сам не ожидал того успеха, которого он достиг: русские бежали целыми толпами, оставив в руках неприятеля 85 офицеров, 2900 нижних чинов, 10 орудий. 9 июля три немецкие роты обратили в бегство две русские дивизии. «Это были уже не те русские войска», — злорадно отметил Людендорф. 12 июля Винклер занял Тарнополь, и вся Буковина с Червонной Русью оказались в руках противника. Вильгельм II прибыл лично в Тарнополь посмотреть на разгром русских. 21 августа немцы вступили в Ригу, 200 лет не видевшей врага в своих стенах. Русские беспорядочно бежали за Двину. «Армия обезумевших темных людей, не ограждаемых властью от систематического разложения и развращения, потерявших чувство человеческого достоинства, бежит. На полях, которые нельзя даже назвать полями сражения, царит сплошной ужас, позор и срам, которых русская армия не знала с самого начала своего существования», — так писал генерал Корнилов об армии, которая еще год назад под руководством Императора Николая II совершила одно из самых могучих и победоносных наступлений Первой мировой войны.
И тем не менее, в этом развале и позоре заключалось спасение чести и будущего Русского Оружия. Как справедливо писал современник: «Великая русская армия, рожденная Петром, армия Екатерины, Суворова, Кутузова, Багратиона, Ермолова, Александра-Освободителя и Александра-Миротворца, Скобелева, Радецкого и Гурко, армия великой войны с немцами, положившая основу успехам наших союзников, все-таки, по-существу, не омрачила доблестной своей истории. Она, в своем огромной массе, не изменила присяге, а когда Государь отрекся от престола, не стала служить никому после ухода Царя и Императора, олицетворяя в Нем понятие о родине, чести и свободе России, и наш солдат уже не стал биться „до победного конца“, ни при ком, начиная с генерала Алексеева и до прапорщика Крыленко включительно. В этом величайшая заслуга русской армии — лица русского народа и родной земли» [555] Русская летопись. Книга 1, Париж, 1921, с. 182 308
.
Венгерский канцлер граф Бетлен в 1934 году сказал: «Если бы Россия в 1918 году осталась организованным государством, все дунайские страны были бы ныне русскими губерниями. Не только Прага, но и Будапешт, Бухарест, Белград и София выполняли бы волю русских властей. В Константинополе на Босфоре и в Катарро на Адриатике развивались бы русские военные флаги. Но Россия в результате революции потеряла войну и с нею целый ряд областей» [556] Керсновский А. А. Указ, соч., т. 4, с. 326.
.
Враги России торжествовали. Британский посол в Париже Ф. Берти писал в своем дневнике: «Нет больше России. Она распалась, и исчез идол в лице Императора и религии, который связывал разные нации православной верой. Если только нам удастся добиться независимости буферных государств, граничащих с Германией на востоке, т. е. в Финляндии, Польше, Украине и т. д., сколько бы их удалось сфабриковать, то по мне остальное может убираться к черту и вариться в собственном соку» [557] Брачев B. C. Указ, соч., с. 309.
.
Император Николай II хотел видеть Россию страной-победительницей, достойной и великой державой. Такой же, правда, хотели видеть ее и генерал-адъютанты, стремлением к этой цели прикрывали свою деятельность общественные оппозиционеры. Но Царь делал от себя все зависящее, чтобы Россия достигла этого. Его действия, правильные либо ошибочные, были искренни, его цели — бескорыстны. У Императора были только одни интересы интересы России. Он до конца был уверен, что и у его генералов эти интересы являются главными, что политические пристрастия и приоритеты будут ими отодвинуты на второй план. В этом он ошибался: генералитет пошел за политиками, политические соображения одержали в них верх над военными. Эти политические соображения основывались на убеждении в необходимости «ответственного министерства», за создание которого генералы стояли не менее уверенно, чем думская оппозиция. «Ответственное министерство» воспринималось как абсолютная панацея от всех бед. При этом, вряд ли кто из них мог объяснить, почему эту политическую реформу нужно было совершать в годы тяжелейшей войны и ради нее пойти на государственный переворот, изменив тысячелетнюю форму правления. Стремление русского общества в целом и генералитета в частности к политическим преобразованиям любой ценой вело Россию и армию к гибели. В этих условиях позиция Царя (никаких политических преобразований во время войны) представляется единственно здравомыслящей.
Читать дальше
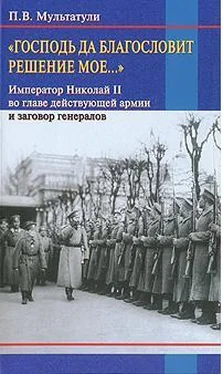

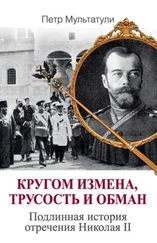
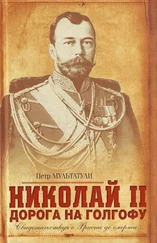

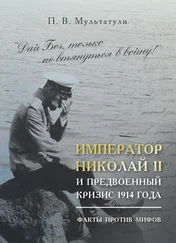
![Петр Мультатули - «Ледокол» для Наполеона [Лживый миф о «превентивной войне»]](/books/427799/petr-multatuli-ledokol-dlya-napoleona-lzhivyj-mi-thumb.webp)