В Данциге можно было наблюдать другую ситуацию. Там немецкая армия сотрудничала с «вервольфами». Командование двадцатого военного округа отдало приказ об активизации партизанского движения 19 февраля 1945 года, то есть за несколько дней до того, как Данциг пал. Во время обороны города «вервольфы» распространяли свои агитационные материалы и расправлялись с «дезертирами» и «капитулянтами». Большинство членов гарнизона было ошеломлено такой тактикой. Рядовые офицеры всерьез опасались жесткой ответной реакции со стороны Красной Армии. Но фанатиков это мало волновало. Они полагали, что, чем больше Советы убьют заложников, тем быстрее гражданское население подключится к национал-социалистическому сопротивлению. В результате, когда в город вошли войска 2-го Белорусского фронта, многие партийцы и офицеры, переодевшись в гражданскую одежду, начали диверсионные вылазки. Они нападали на небольшие группы красноармейцев. Полковник Рамазану, назначенный комендантом Данцига, предпринял все меры, чтобы сохранить в городе спокойствие. Для этого он провел регистрацию населения, предпринимались ежедневные осмотры, был взят жесткий контроль за передвижением граждан. Кроме этого, под охрану были взяты все культурные и исторические ценности. Несмотря на это, трибуналы были перегружены. В них рассматривались сотни дел. В определенный момент подобная политика дала свои положительные результаты. Рядовые немцы увидели, что сопротивление является бессмысленной эскалацией насилия, которая не даст ничего, кроме новых ненужных жертв.
В другом балтийском порту, Штеттине, наибольшую активность проявили ГЮ-«вервольфы». Их действиями руководил штандартенфюрер СС Хиллер, который пытался при помощи подростков организовать защиту города. Когда 25 апреля 1945 года Штеттин пал, то в нем оставалось лишь шесть тысяч человек. Несмотря на такое небольшое население, остатки эсэсовских отрядов еще в течение трех недель продолжали устраивать вылазки на территории города. Они обстреливали советские патрули, устраивали засады, поджоги, минировали дороги. Имелась даже специальная военно-морская команда, состоявшая из водолазов, которые имели своей целью взорвать мост, когда узнали о капитуляции Германии. После поражения Германии остатки этого отряда «вервольфов» решили пробиться на западные территории и сдаться в руки Союзникам. Но скрыться по морю «вервольфам» не удалось. Они застряли на острове Узедом, где и были уничтожены советскими и польскими силами безопасности.
Новый пик активности «вервольфов» на этих территориях пришелся на лето 1945 года. Вызвано это было политикой выселения немецкого населения со своих земель. Как справедливо отмечал один очевидец: «Восточная Германия рисковала превратиться в Западную Польшу». Новым польским властям пришлось столкнуться с активным сопротивлением немецкого населения. Если раньше эти территории контролировались Красной Армией, то теперь польская милиция не могла справиться с валом проблем. Резко возросло количество грабежей. Убийства польских милиционеров и колонистов стали обыденным явлением. Польские власти начали вести учет и составлять списки убитых и пропавших без вести. В 1945 году только в Силезии было убито около сорока польских милиционеров. В то же время потери среди красноармейцев составили одиннадцать человек. Кроме этого, было зафиксировано семнадцать нападений немецких партизан на польские посты, в то время как на советские было совершено лишь два. Партизанские вылазки «вервольфов» стали приобретать четко выраженный национальный характер. Если продолжать эту печальную статистику, то необходимо отметить семнадцать убитых польских железнодорожников. Большинство этих инцидентов произошло на границе Силезии и Германии. Немцы не могли смириться с появлением новой польско-германской границы. В итоге это имело своим следствием новые репрессии со стороны польских властей. Летом 1945 года на силезской границе была создана «карантинная» зона в 100 км, с территории которой были выселены все немцы. Между тем по южной границе с Чехословакией шла форменная партизанская война. Центрами нацистского сопротивления считались горы Ойленге и Ризен. Принимая во внимание лесистость этой горной местности, неудивительно, что они стали приютом для немецких партизан. Учитывая тот факт, что Красная Армия смогла занять Чехословакию лишь к 10 мая, то не могло быть и речи о срочной ликвидации в этих краях немецких партизанских формирований. Здесь скрывались и эсэсовцы, и фанатичные подростки, и остатки власовской армии. Многочисленные тайники с оружием и продовольствием, найденные после войны, указывают на то, что СС давно планировали создать здесь форпост «Вервольфа». Партизанские набеги в этих краях не были редкостью. Ситуацию не исправляло даже постоянное патрулирование. Активность «вервольфов» не падала. 20 июня здесь был убит польский офицер. Девять дней спустя в перестрелке был убит польский милиционер. В течение последующих двух недель произошло еще несколько вылазок немецких партизан.
Читать дальше
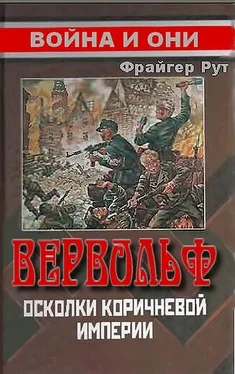
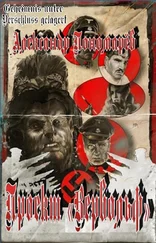
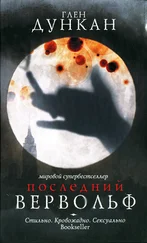
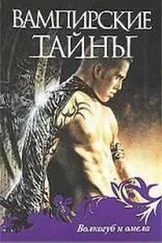

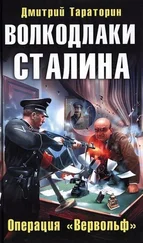
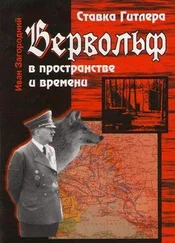

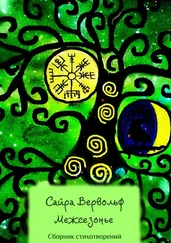
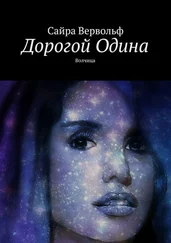
![Владимир Батаев - Осколки Империи [СИ]](/books/436659/vladimir-bataev-oskolki-imperii-si-thumb.webp)