НСДАП и пропаганда «Вервольфа»
После того как Гиммлер произнес свою речь, вызвавшую изрядный переполох, партия пыталась всячески дистанцировать, хотя бы внешне, Фольксштурм от «Вервольфа». С одной стороны, в партийной канцелярии поняли, что без СС не обойтись. С другой стороны, достаточно вспомнить, что, когда гауляйтерам поручили вербовку в отряды «Вервольфа», эта затея потерпела крах. Местные партийные боссы предпочитали направлять людские ресурсы в подконтрольный им Фольксштурм. Кроме этого, гауляйтеры получили фактически неограниченный контроль над пропагандой «вервольфов» (ее принципы были специально разработаны в министерстве Геббельса). Подобная ситуация напоминала «эпоху борьбы», когда гауляйтер НСДАП был ответственным за ведение партийной агитации. Ожидалось, что материалы, подготовленные нацистским режимом, будут забрасываться в тыл противника с самолетов либо запускаться при помощи «агитационных» снарядов. Кроме агитационных листовок предполагалось распространять специальные издания «Фёлькише беобахтер» и миниатюрные издания «Вервольфа» Лонса, который, кстати, был обязательным для прочтения в партизанских формированиях СС. Эта книга распространялась и среди фольксштурмистов.
В октябре 1944 года главный пропагандист СС штандартенфюрер Гюнтер Д'Альквен оказался в штате «Бюро Прюцмана». В то же время он пишет агитационную статью для «Черного корпуса», в которой он рассуждает о возможности ведения национал-социалистической партизанской войны. Однако Д'Альквен, зимой 1944/45 года заболевший скарлатиной, был выведен из строя. Он пробыл в больнице до марта 1945 года. За этот достаточно длительный отрезок времени «Вервольф» фактически не вел никакой пропаганды. Подобная ситуация вполне устраивала многих офицеров СС, которые полагали, что их партизанской организации больше пристал завес тайны, а не крикливая агитация. СС, и без того являвшиеся достаточно закрытым сообществом со своими правилами и традициями, всегда позиционировали себя как элитарную организацию. Возможно, именно это обстоятельство сделало «Вервольф» в глазах партийных функционеров не только таинственной, но и притягательной организацией.
Были и другие проблемы, которые мешали «Вервольфу» вести свою пропаганду. Во-первых, распространение идеи партизанской войны было фактически несовместимо с идеологической установкой, которая утверждала, что противники не смогут войти в Германию. Подобная пропаганда кроме всего прочего намекала бы на то, что вермахт был не в состоянии защитить границы страны. Такие слухи никак не соответствовали официальным заявлениям, согласно которым ситуация на Западном и Восточном фронтах стабилизировалась, а сами военные готовили очередное «успешное» контрнаступление, нацеленное на локализацию американских и британских сил. Даже когда в сентябре 1944 года в стране господствовали панические настроения, силы вермахта казались куда более внушительными, нежели сомнительная мощь каких-то партизанских отрядов. Между тем фактически ничего не говорилось о возможности ведения партизанской войны против Красной Армии.
Вторая трудность была вызвана немецкой эвакуационной политикой, согласно которой большая часть лояльного нацистам населения должна быть вывезена накануне наступления противника. Хотя в Западной Германии к подобным директивам нередко относились с нескрываемым презрением, немецкие средства массовой информации едва ли имели возможность сообщать о партизанских вылазках в областях, которые, согласно официальным источникам, были эвакуированы (кто же тогда там сражался?). Фактически, лучшее, что можно было предпринять, это сообщить о том, что немецкие жители заманили в засаду захватчиков. Тут еще масла в огонь подлил Геббельс, который в начале октября 1944 года выступил с радиообращением, в котором назвал всех немцев, оставшихся на оккупированных территориях, предателями, согласными служить американцам. Один из фанатичных «вервольфов» после этого заявления написал в своем дневнике, что Геббельс паразит, которому нет прощения.
Третья проблема заключалась в том, что реальное сопротивление на занятых Союзниками территориях осуществляли лишь подростки. В некоторых передачах и заметках, конечно, говорилось о «новых мучениках гитлерюгенда». Между тем в Министерстве пропаганды вполне справедливо опасались, что репортажи о партизанах, которые состояли лишь из подростков, могли подорвать доверие к власти. К тому же это указывало на скромный размах самого партизанского движения (а где же взрослые немцы?). Нацисты еще не были готовы поднять на знамя идеи «детских крестовых походов». На подобный шаг нацистская пропаганда решилась лишь в марте 1945 года. Лишь на грани краха в рейхе признали, что движущей силой «Вервольфа» были члены гитлерюгенда.
Читать дальше
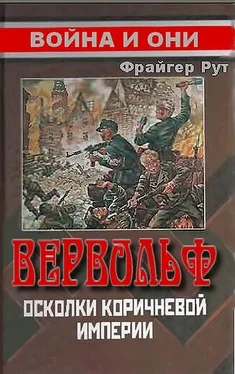
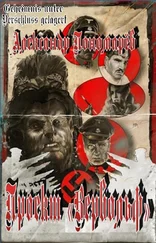
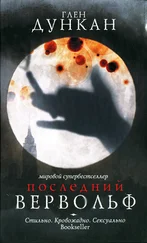
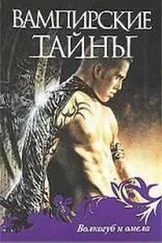

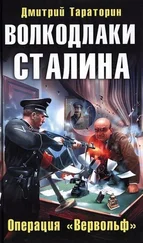
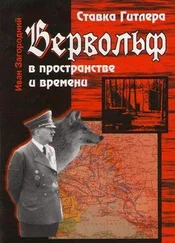

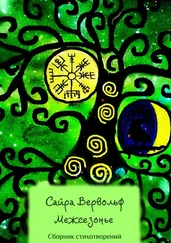
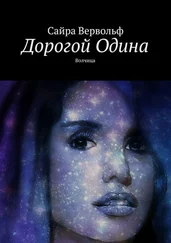
![Владимир Батаев - Осколки Империи [СИ]](/books/436659/vladimir-bataev-oskolki-imperii-si-thumb.webp)