Несмотря на этот провал, идея о парашютных диверсионно-саботажных командах все еще пользовалась популярностью у руководства люфтваффе. По крайней мере, на Восточном фронте подобная практика применялась до последних дней войны. В этих случаях излюбленным приемом было использование гранатометов против резервуаров с топливом и железнодорожных цистерн. При этом нападения происходили ближе к вечеру, что позволяло использовать диверсантам длинные тени и низкий угол солнца. На выполнении подобных задач специализировались остатки отряда «немецких камикадзе», специальной команды «Эльбы». Базируясь в Альпах, в начале мая они совершили множество диверсионных вылазок в Западной Венгрии. Последний вылет, запланированный на 8 мая 1945 года, так и не состоялся. Предполагалось разрушить железнодорожный мост, располагавшийся к северу от Будапешта. Но вылазка так и не произошла — все понимали, что война была проиграна.
Трансформация армейских взглядов
Прежде чем подробно рассмотреть финал «воздушных партизан» люфтваффе, необходимо вернуться назад и восстановить некоторые события, которые способствовали развитию отношений вермахта и «Вервольфа». Прежде всего надо досконально разобраться с изменением отношения армейских чинов к идее ведения партизанской войны. Катализатором этого процесса выступили три критических события. В то время как Верховное командование вермахта смирилось с пониманием «Вервольфа» в духе Клаузевица, то есть попыталось использовать партизанское движение для ведения разведки и осуществления диверсий, то у военных вызывала тревогу идеологическая составляющая «Вервольфа». Напомню, что, прежде чем вермахт начал сотрудничать с «Вервольфом», в этом движении были сформированы специфические идеологические установки. Более детально этот процесс будет описан в следующей главе. Пока ограничусь замечанием, что в марте — апреле 1945 года Геббельс и Борман попытались реорганизовать движение «вервольфов», превратив его в политическое оружие партии. Это была очевидная установка на действия в условиях проигранной войны, что не могло не беспокоить военных офицеров. В радиопередаче от 2 апреля сообщалось, что гражданское население может быть «помощником «Вервольфа». Но это заявление не имело никакого эффекта. Большинство немецких солдат, независимо от их чина и звания, полагало, что в условиях проигранной войны деятельность «Вервольфа» только ухудшит ситуацию в Германии. «Вервольф» рисковал погрузить страну в беспредельный хаос бандитизма. В этих условиях ядро «вервольфов» составили бы спровоцированные безответственными заявлениями партийных бонз фанатики из числа эсэсовцев и идейных нацистов. Естественно, ни те, ни другие не имели бы широкой народной поддержки. При осуществлении подобного сценария партизаны едва ли могли рассчитывать на победу. Военные прекрасно понимали, что на победу не мог рассчитывать и могущественный вермахт, но бесчинства фанатичных «вервольфов» лишь затруднили бы реконструкцию страны. Кроме этого могло быть еще одно последствие — акции возмездия со стороны Красной Армии и Союзников, направленные против мирного немецкого населения. В любом случае подобная деятельность выходила за рамки «клаузевицского» понимания партизанского движения. Как минимум с этической точки зрения. Подобная партизанская война вышла бы за любые рамки рациональной и взвешенной политики. Например, фельдмаршал Альберт Кессельринг, главнокомандующий германскими войсками на Западном фронте, считал «популизм «Вервольфа» бессмысленным и вредным». Этот высокопоставленный военный справедливо полагал, что политика «вервольфов» неизбежно приведет к репрессиям со стороны победителей. «Кроме того, мы, немцы, в силу своего национального характера и природного ландшафта страны не приспособлены для ведения партизанской войны».
На различных фронтах дело с сотрудничеством «вервольфов» и армии обстояло по-разному. На Восточном фронте военные не видели особой необходимости в ведении партизанской войны. Здесь многие офицеры откровенно игнорировали приказы сверху, которые предписывали создание партизанских отрядов. Но даже в этих случаях подобную консервативную позицию занимали, как правило, офицеры младшего и среднего звена. Старшие офицеры иногда вынашивали самые дикие планы. Таковые возникли у командования 5-й бронетанковой дивизии, которая в последние дни войны находилась в восточно-прусском районе Замланд. Офицеры этой армейской части к середине апреля 1945 года осознали, что у них нет ни возможности для маневра, ни необходимых боеприпасов, чтобы вести борьбу против Красной Армии. Был предложен план: разделиться и небольшими группами прорваться сквозь советские позиции на юг страны. Там предполагалось вновь создать небольшие боевые группы и начать партизанские действия. Подполковник Хопп, командующий 31-го бронетанкового полка, полагал, что подобная акция должна привести к определенному успеху. Когда же поступил приказ объединиться в окрестностях Фишхаузена с 26-м армейским корпусом, то часть возмущенных офицеров нарушили приказ и стали самостоятельно формировать партизанские отряды. Некоторые офицеры подорвали свои танки и попытались захватить корабль, чтобы эвакуироваться по морю.
Читать дальше
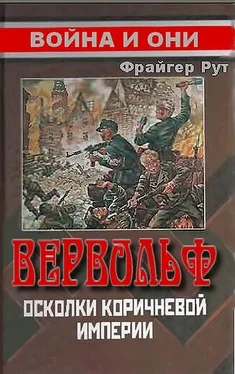
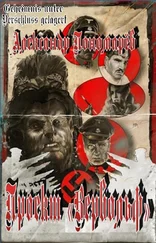
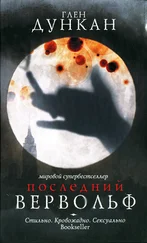
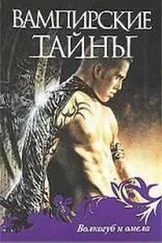

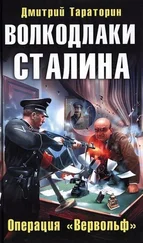
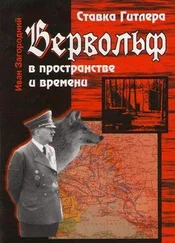

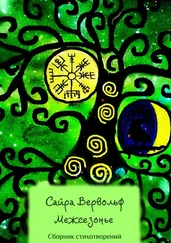
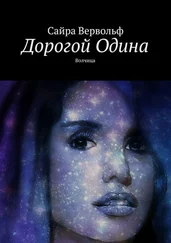
![Владимир Батаев - Осколки Империи [СИ]](/books/436659/vladimir-bataev-oskolki-imperii-si-thumb.webp)