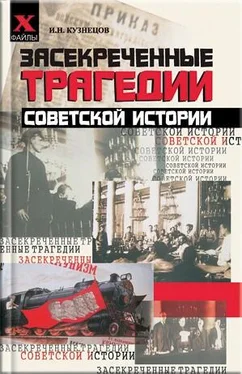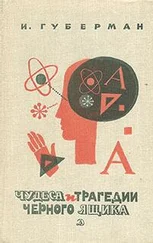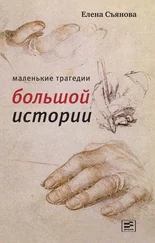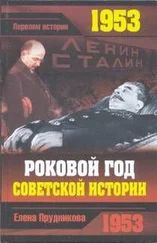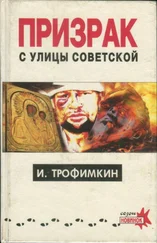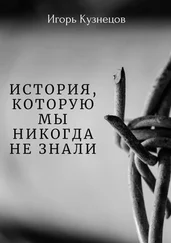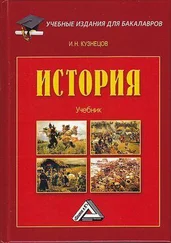Одна из самых драматичных историй военных лет — судьба советских военнопленных. Согласно итоговой сводке германского командования, всего за годы войны в плен попали 5 миллионов 754 тысячи советских солдат и офицеров, в том числе в 1941 г. — 3 миллиона 335 тысяч, а в 1945 г. — 34 тысячи.
Большинство пленных в 1941 г. погибло от репрессий, голода, болезней и к весне 1944 г. в лагерях оставалось лишь 1,1 миллиона человек.
Остальные потери, свыше 17 миллионов, пришлись на гражданское население оккупированных и прифронтовых территорий. Из них около 8 миллионов погибло от голода, бомбежек, артобстрелов, тяжелых условий жизни, непосильного труда. Еще более 2 миллионов погибло на принудительных работах в Германии.
Число преднамеренно уничтоженных в результате гитлеровской политики геноцида (расстрелянных, погибших в гетто, тюрьмах, концлагерях) составило более 7 миллионов человек. Таким образом, прямые и косвенные потери населения СССР в годы Великой Отечественной войны, исходя из имеющихся данных, можно оценить в 48–50 миллионов человек — вот истинная цена Великой Победы.
Кроме обычного просчета, головотяпства или самодурства командиров, русского «авось», было и чисто советские, социалистические причины неоправданных массовых жертв. Как жили прежде, так и воевали. Киев освобождали к «обеденному столу», к очередной годовщине революции. Уложились, освободили 6 ноября 1943 года. Но какой ценой! Тысячи моряков погибли в черноморских десантах, из которых особой трагической славой известны Евпаторийский и Феодосийский.
Можно понять просчеты в начале войны, когда мы еще не научились побеждать. Отечество стояло на массовой народной жертвенности, массовом гибельном героизме. Но теперь-то, в конце войны, когда впереди был только Берлин и рейхстаг!
В той страшной войне союзники отказались от штурма столицы Германии. Генерал О.Брэдли высчитал, что штурм Берлина будет стоить англоамериканским солдатам 100 тысяч жизней. На такие жертвы они пойти не могли.
Разумеется, отказываться от комфортных исторических штампов далеко не просто. Слишком много замешано личных судеб, воспоминаний, боли утрат. На многом лежит неизгладимая печать сакральности: миллионы насмерть стояли за отчий дом, за родных, за Родину; истерзанная земля, невиданные разрушения, более 27 миллионов погибших. Любые негативные интерпретации этих событий, даже вполне аргументированные, могут задеть и задевают индивидуальную память.
Размышления о цене Победы ни в коей мере не умаляет подвига советского народа, а наоборот, возвышает мужество и героизм наших людей в самой кровопролитной в истории человечества войне.
Сегодня мы не можем, не должны, просто не имеем права оставаться в плену обыденного сознания, незаинтересованного в поиске исторической правды.
Часть III. ЗАЛОЖНИКИ ВРЕМЕНИ
Мертвые живы, пока есть живые,
чтобы о них вспоминать
Э. Анрио
Завесой таинственности, недоговоренности окутаны многие моменты, связанные с драматическими событиями, предшествовавшими заключению Брестского мира. В летописи мирных переговоров никак не отмечен день 29 ноября (12 декабря) 1917 г. А между тем, именно в этот день, в разгар переговоров, оборвалась жизнь одного из его участников.
Речь идет о В. Е. Скалоне. В исторической литературе, даже в специальных солидных монографических исследованиях, какие-либо данные о Скалоне отсутствуют. Так кто же он и какова его роль в этих событиях?
Владимир Евстафьевич Скалон родился 28 ноября 1872 г., происходил из дворян Могилевской губернии. В 1887 г. был зачислен в Пажеский корпус, который закончил с отличием, за что был отмечен занесением имени на мраморную Доску почета. По выходе из корпуса был произведен в подпоручики прославленного гвардейского Семеновского полка.
В 1898 г. с отличием заканчивает Академию Генерального штаба. Первую мировую войну Скалон встретил в чине генерал-майора при Верховном Главнокомандующем. 8(21) ноября 1917 г. генерал Дитерихс, в будущем активный сподвижник адмирала Колчака, передал Скалону свою должность генерал-квартирмейстера при Верховном Главнокомандующем.
20 ноября в Брест-Литовске начались мирные переговоры. Уже в ходе переговоров, по предложению Ленина, в состав делегации было решено включить группу экспертов. По одному офицеру от Ставки, от всех фронтов, от Балтийского и Черноморского флотов. Скалон на этих переговорах представлял Ставку.
Читать дальше